От такого обращения Савелий с каждой верстой все больше убеждался в правоте своей догадки. Кузьме по-прежнему невдомек. Прозрел лишь тогда, когда из-под замка Барнаульской гауптвахты привели на судебный допрос. После обычных пустяковых вопросов майор Кашин строго предупредил:
— Надлежит вам говорить только сущую правду, в том и дайте клятвенное обещание.
Откуда-то сбоку вынырнул священник в черной пространной рясе. Не подошел, а ночной птицей бесшумно подлетел к подсудимым. Обещание читал внушительным, торжественным баском.
— Вот тут и крестики ставьте…
«Так и есть…» — подумал Савелий и чуть не рухнул на пол, когда в комнату ввели Настю. Стала сбоку солдат, строгая и отчужденная, словно и в глаза не видывала раньше Смыковых.
Судейский писец, плоский и черный, как грифельная дощечка, принялся читать бесстрастным, скрипучим голосом обвинительное заключение со ссылками на свидетельские показания.
Савелий пучил глаза, немел от удивления. В его памяти давно быльем поросло то, о чем разглагольствовал писец. А теперь воскресло. Стало близкой и зримой явью. Савелий понял одно: большую провинку вешали ему на шею. И сил не хватало сбросить ее. Проницательный, холодный взгляд майора, слова страшного обещания отнимали волю к сопротивлению.
Когда писец заглох, начался короткий допрос. Приговор был определен и заготовлен ранее, требовалось просто-напросто соблюсти установленную формальность.
Майор коверкал тишину громкими вопросами.
— Савелий Смыков, склонял ли ты сноху свою к греховодному прелюбодеянию? Нет ли излишней твоей вины в том, что ты слышал сейчас?
— Истин бог, правда сказана во всех тех бумагах…
— И не думал, что грешно? — вставил священник.
— Как не думать, батюшка. И такое думалось. Да не волен я греховный соблазн обороть, не было силов моих на то.
Майор поспешно заключил показания Савелия:
— Все ясно и понятно. — И с вопросом к Кузьме: — Говори теперь ты. Знал ли, что отец твою жену одолевал домогательствами?
Голос у Кузьмы слабый, невнятный, схож с шелестом трав на легком ветру.
— Знал, благородь. Сама жена рассказывала.
— Знал, говоришь? За что жену обижал?
— За обиду и посейчас повинен я, благородь. Не поверил тогда жене.
— Жаловался ли по команде на родителя своего?
— Все при мне осталось…
— Так, так… что ж, похвально, Кузьма Смыков, твое поведение. К родителям почтение имеешь. Закон запрещает приносить жалобы на родителей.
Насте и вопроса никто не задал.
Писец снова начал читать. Теперь приговор.
Настя хорошо улавливала смысл прочитанного, и лицо ее светлело. В приговоре говорилось:
«…последняя побуждалась к тому прелюбодеянию под всякими насилиями и утеснениями, однако ж не сокрыла о том от своего мужа и по женскому своему состоянию, насколько достигла смысла ее, то она — не умолчала и посторонним людям о том сказывала, почему и оставить ее свободной…»
Насте зачлось и то, что
«будучи убегом из дому, дорогой воровства по деревням не чинила».
Савелию и его жене грозила Нерчинская каторга, которую заменяли «работой при здешней горной команде…»
Кузьмы Смыкова приговор не касался.
Священник обратился к Насте:
— По законам святейшего синода за тобой остается право выбора — быть в прежнем браке или нет. Хочешь ли вернуться к своему мужу?..
Настя решительно ответила:
— Нет, не хочу.
Так и осталась при Барнаульском заводе у отца Ферапонта в домашнем услужении.
* * *
В конце лета глубокой ночью от ворот Барнаульской гауптвахты отъехала крытая пароконная повозка, протарахтела по деревянному настилу плотинного моста. Позади остался крутой лысый подъем, отсюда начинался Змеиногорский тракт.
Жидок и робок лунный свет. Но и при нем хорошо заметны сгорбленные фигуры возницы и двух солдат. Один на облучке, другой — на запятках повозки.
До деревни Ересной тракт с обеих сторон стеснен густым сосновым лесом. За деревней, по левую сторону — пашенные косогоры вперемежку с нарядными березовыми колками. Под монотонный топот конских копыт и стук колес солдаты дремали. Их головы кланялись, как тяжелые топоры-колуны, кажется, вот-вот сорвутся с плеч и покатятся рядом с колесами.
У деревни Бельмесевой, едва переехали жидкую гать через ручей в узком и длинном овраге, выпрягли лошадей. Место укромное, тихое — самое подходящее для ночлега.
Еще не занимался рассвет. Солдаты воспряли ото сна и себе не поверили. Кто-то накрепко скручивал им руки и ноги тонкими, въедливыми веревками. Как отчаянно ни брыкались, а силе уступили. И кричать нельзя: рты плотно забиты тряпьем.
Читать дальше
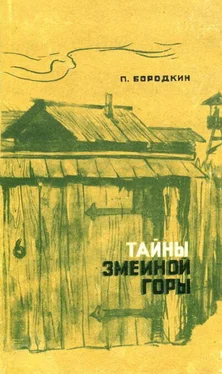


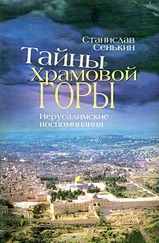
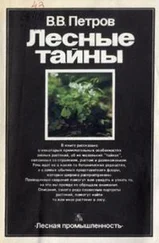
![Анатолий Евтушенко - Тайна Змеиной пещеры [Повесть]](/books/402006/anatolij-evtushenko-tajna-zmeinoj-pechery-povest-thumb.webp)
![Петр Блэк - Тайны Эльфигории [СИ]](/books/427344/petr-blek-tajny-elfigorii-si-thumb.webp)





