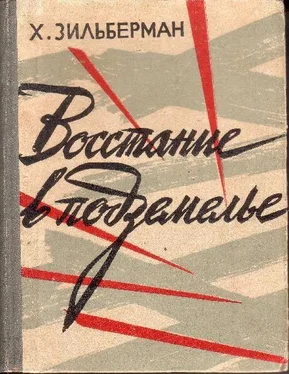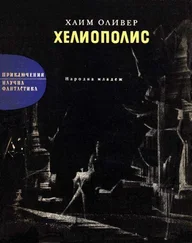Неожиданно перед стариком оказался Али.
– А зачем она тебе, эта жизнь? – в упор спросил он. – Ну, допустим, съешь ты ещё двести мисок супа, а дальше что? Дальше? Дальше?..
Али говорил по-французски, и старик, кажется, хорошо его понял. Подойдя совсем близко к Амадею, араб нагнулся к нему и резко бросил:
– Умный полагается на дело рук своих, а глупый – на случай. – Немного помолчав, он тихо добавил: – Прости меня, я не хотел оскорбить твои седины!
– А зачем же вы всё-таки собираетесь? – услышали мы вдруг сердитый голос.
Али оглянулся и увидел рядом с собой одного из заключённых. Громадная лысая голова, лицо цвета плесени, выпуклые водянистые глаза… Привлечённый разгоревшимся спором, человек этот спустился с третьих нар и остановился в проходе.
– Что, собственно, вас интересует? – спросил его Вася.
– Я с вами не разговариваю! – почти крикнул тот, устремив на Васю раздраженный взгляд. – Я хочу понять, – обратился он к обитателям камеры, со всех сторон глядевшим на него, – я хочу понять, неужели всем нам тут так уж хорошо живется, что мы можем позволить себе вызывать недовольство начальников? Вы хотите, чтобы всех нас уничтожили? Почему мы должны рисковать своей жизнью из-за двух-трёх коммунистов?..
Произнеся слово «коммунистов», он, видимо, и сам испугался. Камера примолкла.
Внизу, на том месте, где только что бушевали страсти, вдруг стало пусто. Люди лежали на нарах и делали вид, будто крепко спят. Члены комитета снова забрались и свой угол и тихо продолжали прерванный разговор.
Только большеголовый человек с нездоровым цветом лица одиноко стоял в проходе, и взгляд его испуганно блуждал по нарам. Казалось, ещё секунда, и он заплачет, закричит: «Люди, помогите! Не оставляйте меня одного! Одному страшно!»
Говорить о жалости в наших условиях было бы, по меньшей мере, наивно. Мы забыли о таком чувстве, как жалость. Скажите мне, прошу пана, кто кого должен был жалеть: здоровый – больного за то, что у того кончаются силы, или, наоборот, больной – здорового, для которого эта мучительная кротовья жизнь будет тянуться ещё непомерно долго? Нет, нас никто не жалел и мы никого не жалели! Но этого человека, оказавшегося в одиночестве среди таких же, как он, обездоленных людей, мне почему-то стало до боли жалко. «Какую же казнь может выдумать себе человек!» – думалось мне.
Об этом узнике мне хотелось бы рассказать подробнее, хотя бы потому, что он сильно отличался от всех нас не только внешним видом, но и поведением. Дело в том, что, живя вместе с нами, в коллективе, он продолжал оставаться отшельником, ратующим лишь о спасении своей души. Он с явным пренебрежением относился ко всем заключённым, нарушавшим установленный порядок, и терпеть не мог тех, кто не верил в бога, не молился, не уповал на всевышнего – единственную силу, которая, по его мнению, могла бы избавить нас от жестоких мук и плена. Он никогда ни с кем не вступал в разговоры, и мы почти ничего не знали о нем: ни его происхождения, ни национальности, ни того, каким образом попал он в подземелье.
Это был профессиональный гравёр и, судя по его работам, неплохой мастер. В цеху он целыми днями сидел, склонившись над своим столом. Наших сигналов он не замечал, вопросов не слышал. Мы привыкли к тому, что он не желает ни с кем иметь дела, и оставили его в покое. Подчас мы попросту забывали о нем. Не знаю, кто прозвал его Михелем. Почему именно Михель? На этот вопрос никто, видимо, не смог бы ответить. Впрочем, со временем наш отшельник привык к этому имени; стоило кому-нибудь из нас произнести «Михель!», как он поворачивал голову и бросал в нашу сторону сердитые взгляды.
Но сейчас никто не обращался к Михелю, не видел его, не называл по имени. Долго стоял он в проходе между нарами, на которых спали люди, и о чём-то мучительно думал.
О чём он ещё мог думать?
Мне запомнилось всё, что произошло той ночью, потому что это был единственный случай, когда беседа наша была прервана. В дальнейшем мы продолжали собираться по ночам; никто нам не мешал, никто не тревожил. В камере существовала негласная договоренность о том, что во время собраний комитета все остальные заключённые должны спать. Это, надо думать, устраивало всех. На самом же деле, пока члены комитета бодрствовали, обитатели камеры в большинстве своём чутко прислушивались к тому, что делалось в нашем углу, на втором ярусе. В этом нетрудно было убедиться.
Но ни в цеху, ни в камере-общежитии никто не обращался к нам с вопросами, никто не вступал в разговоры. Я уже сказал вам, что мы ни о чём не уславливались, ни о чём не договаривались с узниками, не делали им никаких сообщений, ничего никому не обещали…
Читать дальше