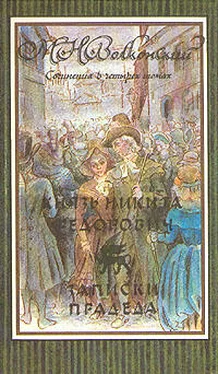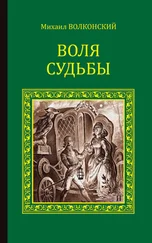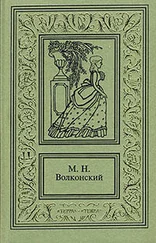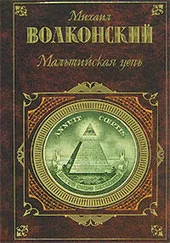Дальше я не помню, что было со мной. Волнение и все, что я пережил в продолжение семи месяцев плавания, разрешилось приступом нервной болезни. С набережной меня перенесли в обмороке, но не на корабль, а в находившийся тут же поблизости дом, где я впоследствии пришел в себя через неделю. Здесь, в этом доме, я был воскрешен к новой жизни.
Вы спросите, что же дальше? Пошел я и заявил о том, как было дело, раскрыл судьям их ошибку? Да, это было первым моим желанием, я хотел идти и заявить. Но что же вышло бы из этого? Несчастный доктор был казнен, я не мог вернуть ему жизнь. Наказания за мой поступок по закону не полагалось, кроме церковного покаяния, потому что я был случайным убийцей. Я не мог даже своевременно заявить обо всем, потому что меня без памяти увезли на корабль, который ушел в море. И разве мог я предполагать, что за меня пострадает другой? Но, раскрыв себя теперь, когда все уже было кончено, я стал бы навеки врагом единственному существу, для которого я должен был жить, — девочке, оставшейся после смерти жены доктора Дюваля. Этого ребенка я искал всю свою жизнь. Те люди, которые взяли меня после обморока на набережной, вылечили мое тело и вылечили душу, научили меня, что мне делать и на что положить эту новую жизнь, к которой они вернули меня. Я прошел целый ряд испытаний, которым подвергся добровольно, наконец был отправлен в Россию, к вашему дяде, под руководство которого и поступил с тех пор. Он помогал мне, он учил меня.
Девочка родилась в Пиренеях, и там же умерла ее мать. Я был там, но все, что мог узнать, было следующее: ребенка звали Маргаритой (впрочем, ее имя было, и в газетах) и его взял кто-то на воспитание из милости. Однако ваш дядя постоянно поддерживал во мне надежду, что я найду этого ребенка. Я сам был уверен, что не умру, не увидев, не положив своей жизни за бедную Маргариту Дюваль.
Годы проходили, мое желание не исполнялось. Временами я приходил почти в отчаяние. Помню, сколько раз твердил мне ваш дядя: «Сообразуй силы свои не для того чтобы падать духом пред препятствиями, но чтобы терпеливо, как вода капля по капле точит камень, преодолеть их. Только постепенно можно достигнуть намеченной вершины». Я смирялся, думал, изнемогал, ища все одного и того же.
В одну из минут упадка духа ваш дядя, чтобы поддержать меня, дал мне задачу наблюдать за Идизой. Он сказал мне, кто она и как нужно оберегать ее. С тех пор я неотлучно был при ней.
Когда я уезжал, думая, что открыл след Маргариты, мне было позволено брать с собой Идизу, но лишь под условием беречь ее в тайне. В одну из таких поездок она в Лондоне встретилась с вами. Ваше письмо о ней к дяде дало последнему мысль со временем соединить вас. Теперь время это наступило. Идизу я полюбил всей душой, с ней мне легче было жить.
И вдруг после долгих лет искания я нашел наконец то, что искал. Совершенно неожиданно, почти случайно, я встретил Маргариту в авантюристке-француженке, явившейся в Петербург.
Это было и радостью, и ударом для меня в одно время. Я был счастлив, что нашел ее, но она оказалась по жизни такова, какой не должна была быть девушка честной семьи. Будь живы ее отец и мать, она, может быть, была бы счастлива или несчастлива, но ни в каком случае не стала бы тем, чем явилась в Петербург. И так или иначе, но этому причиной был не кто иной, как я.
Однако цель моей жизни была у меня в руках. Да, я чувствовал себя виноватым, но видел утешение в том по крайней мере, что не лишил себя возможности хотя несколько исправить причиненное мной зло. И я принялся за дело.
Натура Маргариты, от природы добрая, оказалась сильно испорченной. У нее бывали порывы, когда ничто не могло повлиять на нее. Нужно было действовать постепенно, нужно было мало-помалу будить в ней хорошие стороны ее души. Я принялся за дело горячо и, может быть, слишком круто. Но мне хотелось наверстать потерянное время. Однако только недавно я увидел плоды своих усилий. Я заметил в ней явный поворот к перерождению, к лучшему, и судьба улыбнулась ей, бедняжке… Как вдруг сегодняшний случай… И нет ее в живых, нет больше! — заключил Гирли и снова спрятал лицо, закрыв его руками.
Орленеву от всей души было жалко старика, положившего всю свою жизнь на искупление своего невольного греха и не достигшего этого искупления, но он ничего не мог сказать ему в утешение, потому что фактов для этого у него не было никаких, а только ими можно было подействовать на Гирли. Все, что бы ни начал говорить Орленев в смысле утешения, так сказать, чисто отвлеченного, вероятно, было лучше его известно старику, умевшему на глазах того же Орленева справляться со своими душевными движениями, а главное, знавшего жизнь гораздо лучше его, и потому учить его не приходилось. Да и сказать в сущности ничего нельзя было.
Читать дальше