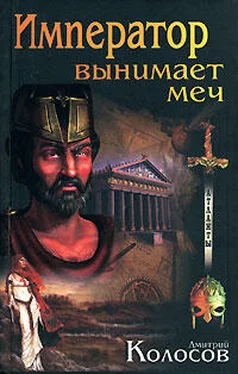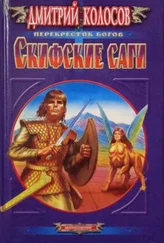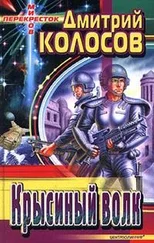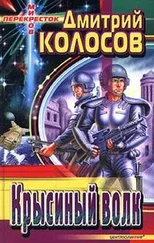При виде забавного ребенка на сердце Филомелы сделалось вовсе легко. Ей показалось, что она знала все это давно: и Эпикома, и его младшего брата и даже высушенную временем старуху-мать. Все они показались Филомеле столь родными, что она даже удивилась, как могла так долго жить в доме Ктесонида, называвшегося ее отцом. Девушка счастливо рассмеялась, вызвав улыбки на лицах присутствующих. Всем стало легко, напряжение, нередко присутствующее на свадьбах, растаяло.
Гости запели гимн, Эпиком обнял невесту и повел ее к очагу. Перед стоящим над очагом, в пробитой в стене нише домашним демоном затеплили светильник, в какой бросили кусочки благовонной смолы. Приняв из рук неслышно появившейся матери фиал с водой, жених окропил Филомелу и шепнул, чтобы она протянула руки к огню. Потом он принялся читать молитву, благодаря богов за свершившийся брак. Филомела вторила мужу, стараясь в точности повторять слова, которых не знала. Слуга принес пирог и фрукты: огромной величины яблоки, груши и сливы, по краю блюда лежали виноградные гроздья. Другой слуга стал обносить гостей киликами с вином. Каждый из гостей плескал несколько капель на пол, принося жертву богам, затем осушал чашу до дна и произносил здравицу в честь новобрачных.
Выпил и отец, Ктесонид, на глазах которого предательски поблескивали слезинки. Ухарски разбив об пол килик, Ктесонид извлек из серебряного футляра, который принес с собой, лист папируса с брачным контрактом. Слуга подал стило, и Ктесонид первым вывел свою подпись. Затем контракт подписали Эпиком и двое свидетелей. Теперь брак был скреплен и богами, и законом.
Гости начали расходиться. Последним, постоянно оглядываясь, ушел Ктесонид. Когда двери за ним затворились. Эпиком нежно обнял жену и повлек ее в опочивальню. После ласк он уснул, а Филомела никак не могла отдаться в объятья Морфея. Ощущая бедром толстый мягкий живот мужа, она размышляла над переворотом, произошедшим в ее жизни.
Филомела не знала, счастлива она или нет, но, наверно, все же она была счастлива…
Когда-то, давным-давно, здесь был гигантский город. Просторные прямые улицы, гигантские дворцы, ползущие лестницами вверх зиккураты, цветущие парки-сады. Когда-то этот город восхищал и ужасал современников, ибо был возведен великим и ужасным царем, покорившим полмира, а вторую половину его предавшим полному запустению. Но царь умер, а следом умер и город, ибо люди не могли жить в этой обители злобной воли и страха. Они уходили сначала поодиночке, потом стали бежать целыми толпами, возвращаясь в городки и села, откуда были насильно выселены в столицу грозного повелителя. Прошли года, и некогда цветущий город превратился в обитель мертвого камня, хищно посвистывающего по пустынным улицам ветра, да призраков, смертельно опасных для неосторожно забредшего в эти края путника. Потому-то люди никогда не заходили сюда — в город, чье имя, давно канувшее в Лету, помнили лишь ветер да солнце.
Человек, объявившийся поутру в мертвом городе, также помнил его имя — красивое и гордое, словно выточенное из черного камня. Дур-шаррукин — вот как некогда звалось это место. Дур-шаррукин, столица могущественного Саргона, оставленная его преемниками. Дур-шаррукин — человек помнил этот город, когда он был еще юным. Помнил, несмотря на то, что с тех пор минули столетия. Такое случается.
Пустые улицы, покрытые обломками зданий и густым слоем спекшейся в почву пыли, навевали тоску и ужас, но сердце путника было спокойно. Его трудно было испугать, глубоко посаженные и удивительно широкие глаза человека взирали на мир уверенно, губы были тверды, а рот — полон острых зубов, каких стоило опасаться любому, кто вздумал бы возомнить себя врагом незнакомца. Если бы Ганнибал или подозрительный Махарбал могли видеть сейчас этого человека, то без сомнений признали бы в нем проводника, столь счастливо переведшего пунийское войско через Альпы.
На путнике была самая простая одежда — серый дорожный хитон, сандалии, широкополая шляпа. Плечи покрывал светло-зеленый плащ, правая пола которого слегка оттопыривалась, что позволяло предположить наличие меча — не очень длинного, но и не очень короткого — того, что так любим иберами, и что позволяет как колоть, так и рубить.
Но наблюдательный зритель, окажись он вдруг в этом пустынном и пугающем месте, непременно отметил бы, что не меч делает вошедшего в город путника отважным. В этом человеке — в его походке, фигуре, лице — читалась непоколебимая уверенность в себе — уверенность, граничащая с презрительной скукой. Так ведут себя люди, повидавшие в жизни столь много, что уже ничто не может их напугать, встревожить, да и просто изумить. Ленивая снисходительность только что отобедавшего кота, бредущего мимо замерших во страхе мышей.
Читать дальше