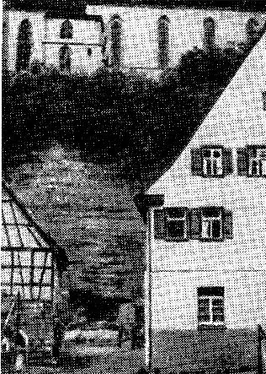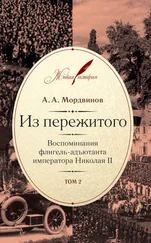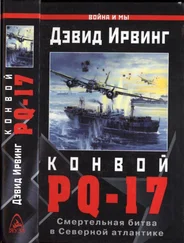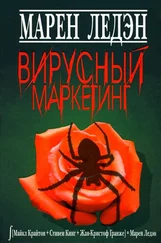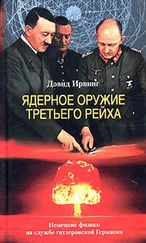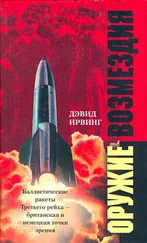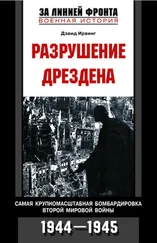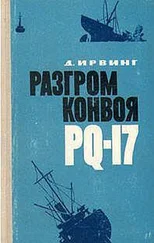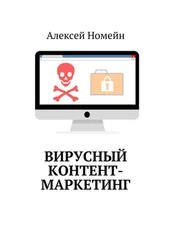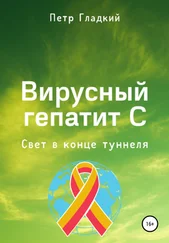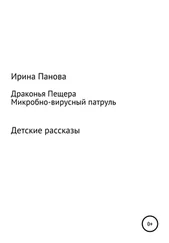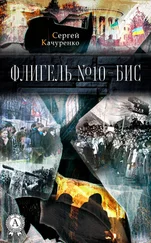Эксперименты Фюнфера и Боте в Гейдельберге позволили установить эмпирическое правило, согласно которому вес урана и вес тяжелой воды в котле должны быть примерно равны. Они также определили, что при использовании урановых пластин толщиной в сантиметр наивыгоднейшая толщина разделяющего слоя тяжелой воды должна равняться примерно двадцати сантиметрам.
Позе и Рексер не располагали металлическим ураном и тяжелой водой и потому ставили свои опыты с окисью урана и парафином. Они задались целью окончательно подтвердить выгодность применения кубических урановых элементов. В серии сравнительно несложных экспериментов, выполненных в лабораториях Эзау, они с несомненностью доказали преимущества кубической конфигурации урановых элементов: «Кубическая конфигурация превосходит стержневую, а стержневая лучше пластинчатой» — таков был смысл их сообщения на конференции.
Упоминание о стержневой конфигурации в докладе Позе и Рексера было не случайным. Дело в том, что при кубической конфигурации весьма усложняются проблемы теплопередачи, а также возникают и некоторые другие трудности. В этом смысле стержневая конфигурация оказывалась более приемлемой. Пластинчатая же конфигурация во всем уступала первые двум и не только с точки зрения работы реактора, но и с точки зрения трудностей изготовления самих пластин и их защиты от коррозии. В пользу применения пластин вообще не существовало разумных практических доводов. Единственным человеком, требовавшим применения пластин, оставался Гейзенберг. Нобелевский лауреат буквально огорошил Хартека, сказав ему, что настаивает на применении пластин во имя значительного упрощения теоретического анализа работы реактора.
Но именно потому, что Гейзенберг не желал отказаться от пластин, его эксперименты все еще не могли начаться — завод не справлялся с выпуском тяжелых урановых пластин. Эксперименты приходилось откладывать до той поры, когда будут созданы плавильные печи достаточной емкости, а «Ауэр гезельшафт» и некоторые лаборатории изучат возможные антикоррозионные покрытия для пластин. В лабораториях Эзау разработали способы алюминирования и электролитического лужения урана. Но они помогли бы делу, если бы химическая чистота выпускаемого урана была более высокой. В ноябре «Ауэр гезельшафт», наконец, нашла подходящий метод — фосфатирование. Фосфатная пленка оказалась очень стойкой, она не разрушалась даже при температуре 150 градусов и при давлении 5 атмосфер. Сплавление урана и прокатка пластин для большого берлинского эксперимента начались только в конце 1943 года.
Как уже говорилось, Позе и Рексер окончательно доказали преимущества кубической конфигурации урановых элементов. Они же и рекомендовали приступить к серийному выпуску урановых кубиков. Через несколько недель после их выступления на конференции Эзау и Дибнер отправились в правление «Ауэр гезельшафт» лично договариваться об изготовлении урановых кубиков, с тем, однако, условием, чтобы не сократился выпуск урановых пластин. Фирма пошла им навстречу и приступила к постройке еще одной печи для удовлетворения нужд Дибнера и его группы в Готтове.
Теперь перед Дибнером открылась реальная возможность приступить к проведению второго и третьего экспериментов, намеченных им сразу же после успешного эксперимента с тяжелым льдом.
Второй эксперимент проводился специально для контроля и потому отличался от первого лишь тем, что вместо тяжелого льда в реакторе была тяжелая вода при нормальной температуре, а урановые кубики пришлось гирляндами подвешивать на проволоках из специального сплава.
Алюминиевый цилиндрический контейнер, в котором в свое время собирали реактор на тяжелом льде, перевезли в Готтов и опустили его в специально подготовленную яму, которая была сделана в той же самой лаборатории, где обыкновенно и работала группа Дибнера. Чтобы сэкономить парафин, контейнер обшили деревянными рейками, а затем залили на глубину 160 сантиметров парафин. Неподалеку от дна контейнера сделали сферическую полость диаметром 102 сантиметра. В этой полости и должен был помещаться реактор. Получившийся парафиновый цилиндр подвесили на стальной плите, чтобы с ее помощью можно было его поднимать и таким образом открывать доступ к полости.
Как уже говорилось, второй эксперимент был контрольным, и реактор по своим размерам не отличался от первого. Однако ради геометрической симметрии в нем использовалось не 108 кубиков, а 106. Это позволило так разместить в реакторе урановые кубики, что расстояние между каждым кубиком и его двенадцатью соседями было одинаковым и равным 14,5 сантиметра. Кубики покрыли новым, полистироловым лаком. Лак этот, как показали исследования профессора Хакселя, практически не поглощал нейтронов. Концы проволок, удерживающих гирлянды по восемь и девять кубиков, пропустили через слой парафина и прикрепили к стальной плите.
Читать дальше