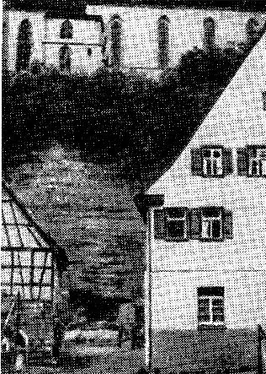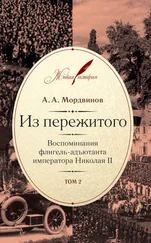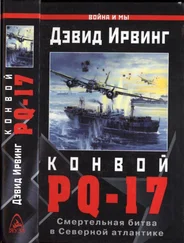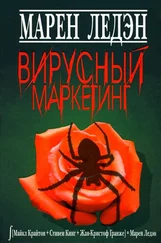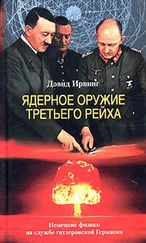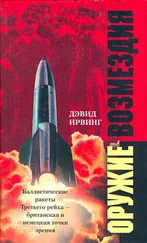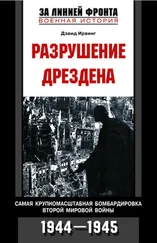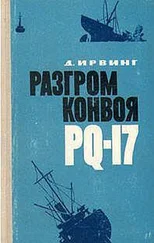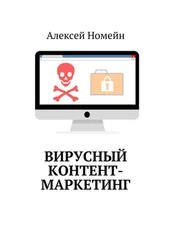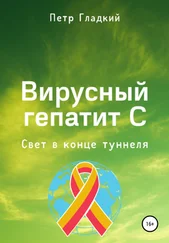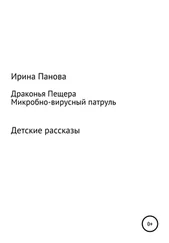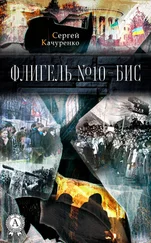«…Гейзенберг мчался в Берлин на секретное совещание, где должна была определиться судьба уранового проекта. 4 июня немецким атомщикам предстояло встретиться со Шпеером и его ближайшими помощниками по министерству снабжения. Дело в том, что еще в апреле Геринг издал постановление, категорически запрещавшее проведние всех научно-исследовательских работ, результаты которых не сулят немедленного эффекта и смогут быть использованы только после войны. Этим же постановлением право принимать решения относительно судьбы той или иной научно-исследовательской работы предоставлялось только одному человеку — Шпееру» (стр. 144).
Чтобы читатель яснее представлял себе атмосферу, в которой происходило совещание, стоит напомнить, что именно с апреля 1942 года королевская авиация (английская) начала свои рейды на города Германии: Любек, Росток, Кёльн уже были превращены в развалины, а Кёльн стал первым городом, который бомбила одновременно тысяча самолетов.
Получив на совещании слово, Гейзенберг без обиняков заговорил о военном применении атомной энергии и объяснил, каким образом можно изготовить атомную бомбу. Последнее оказалось новостью для большинства присутствующих.
Интерес военных к взрывчатому веществу нового типа ярко демонстрирует высказывание фельдмаршала Мильха через несколько дней после совещания:
«Заключите с нашими специалистами по взрывчатым веществам контракт — скажите им, чтобы они разработали взрывчатку, которая сильнее всех других взрывчатых веществ! Мы обязаны найти средства, чтобы отомстить за Росток и Кёльн, и, когда мы начнем атаковать, мы должны заранее знать, что это есть единственный удар, который разрушает города» (стр. 145).
Вечером после закрытия совещания Гейзенберг, случайно очутившись рядом с фельдмаршалом Мильхом, улучив минутку, спросил его, что сулит немцам исход войны? Мильх ответил по-военному прямо; «Если немцы проиграют, всем им лучше будет принять стрихнин».
Тот же самый вопрос Гейзенберг задал Шпееру, когда показывал ему научные установки Физического института. Министр повернулся лицом к физику и, не сказав ни слова, посмотрел на него долгим, как будто ничего не выражающим взглядом. Этот взгляд и молчание были красноречивее всех слов.
23 июня Альберт Шпеер докладывал Гитлеру о делах. В числе прочих он затронул и атомный проект. В длинном перечне вопросов проект значился под шестнадцатым номером.
Все, что счел нужным записать по этому поводу Шпеер, исчерпывалось одной фразой:
«Коротко доложил фюреру о совещании по поводу расщепления атомов и об оказанном содействии».
Позже Гейзенберг утверждал, что весной 1942 года у них не было морального права рекомендовать правительству отрядить на атомные работы 120 тысяч человек.
Военные же руководители, опьяненные успехами в первый год войны в Европе, «вовсе не были убеждены в необходимости именно теперь начинать ядерные исследования» (стр. 51).
Конечно, далеко не все ученые занимали по отношению к ядерному оружию такую позицию, как профессора Гейзенберг, Ган, Герлах. Были и другие, которые на «урановом проекте» хотели сделать себе карьеру. И они, вероятно, используя теоретические и экспериментальные работы других, смогли бы завершить или во всяком случае значительно продвинуть их, если бы этому не мешали другие обстоятельства, на которые также указывает автор книги.
Из книги Д. Ирвинга «Вирусный флигель» отчетливо явствует, какой размах приняли в Германии работы в области атомной энергии — работы, имеющие целью использовать ее для военных нужд. Ирвинг пишет:
«Эти два человека, Дибнер и Эзау, каждый по-своему, убедили военных в необходимости атомных исследований. И когда разразилась война, только Германия, только она одна, имела военное учреждение, целиком занятое изучением использования атомной энергии в военных целях» (стр. 52).
Следует иметь в виду, что среди нацистского руководства Германии постоянно шла борьба за власть и положение в стране. Геринг, ответственный за эти работы, «назначая руководить атомным проектом физика, а не администратора, прежде всего желал, чтобы никто не мог воспользоваться этим проектом для укрепления собственного положения и получения личных преимуществ и благ» (стр. 345).
Ученые академического склада, не связанные в прошлом с промышленностью, они не обладали необходимой практической хваткой, решительностью и не могли оценить ни трудностей, ни необходимых средств для решения проблемы. На вопрос министра снабжения Шпеера, сколько потребуется денег, чтобы ускорить исследования, профессор Вайцзеккер назвал сумму в сорок тысяч марок. «Это была столь жалкая сумма, — вспоминал впоследствии фельдмаршал Мильх, — что мы переглянулись со Шпеером и даже покачали головами, поняв, сколь наивны и неискушенны эти люди» (стр. 341).
Читать дальше