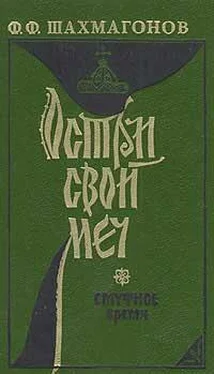— Есть у меня еще одно письмецо, — вмешался Богданка. — Все читать не стану, прочту о том, что из себя являет польский пан. Пишут в челобитной: «стоит у меня в деревне пристав твой государев, пан Мошницкий. Насильством взял у меня сынишка моего к себе в табора, а сам каждую ночь приезжает ко мне, меня из дворишка выбивает, хлеба не дает, а невестку у себя в постели насильством держит. Государь смилуйся!» А я говорю: государыня смилуйся! Смилуйся над своими подданными, защити их от польского разбоя!
Марина раздраженно ответила:
— Что ты хочешь, государь без государства и без царского венчания? Что ты хочешь, патриарх, поставленный волей не венчанного царя и без согласия вселенских патриархов? Что вы хотите? Чтобы я отказалась от польского рыцарства? А что взамен? Мужичье, которое тут же растерзает Шуйский? В Московии война одних русских людей против других русских людей. На войне всегда грабят и насилуют. Не к тебе, названному Дмитрием слать челобитчикам свои челобитья, а к царю Шуйскому. Терпят клятвопреступника и убийцу, того и заслужили перед Богом, за свои грехи и попустительства грехам.
— Челобитчики не будут бить челом Шуйскому. От него отвернулись, отвернувшись от нас, куда им податься? С топором пойдут на нас. Государыня, пора тебе оказать себя царицей, а не только ею называться. Или ты возьмешь власть, или явится на московский трон король.
— Отказаться от польского воинства?
— Я этого не сказал. Уйми это воинство, не уймешь, уймут его русские люди. То грядет!
9
Власть пора было употребить. Пора было остановить одичание, охватившее русских людей, да власти не оказалось ни у царя Василия Шуйского, ни у патриарха Гермогена в Москве, ни у тушинского Дмитрия, ни у царицы Московской Марины. Польским находникам Роману Рожинскому и Яну Сапеге и их сотоварищам безвластие в радость.
Всплыли на поверхность жестокость, алчность, подлость, жажда убивать и жить, не сея, а пожиная посевы, сеяные чужими руками. Преступив законы человеческого бытия, множество людей спешили воспользоваться обретенной свободой от страха перед Господним наказанием, от угрызений совести, от чести и разума. Грабительство растекалось по замосковным городам, достигая Вологды, Устюжны, Соль-Вычегодска, Белоозерья, берегов Волги. В города, в посады, в села, в деревни, в починки, на погосты наезжали поляки и гультящие, брали, если находилось что брать, что можно было унести, а то, что унести было невозможно, сжигали. Забирались в лесную глушь в поисках укрывающихся от грабежей.
Пропал бы, сгинул бы в бездну русский человек, если бы не сохранились бы в народной памяти бедствия татарщины, захоронившиеся в сознании на сотни лет. В грозный час новых бедствий ожила память и указала,что не дожидаясь милости от царей, осталось упования только на Бога и на себя.
Сколько бы не нажито, поскорбев над потерей созданного трудами дедов, отцов своими руками, оставляли жилища, уходили в леса в одиночку, семьями, с малыми детьми и стариками. Скрывались в непроходимых лесных урочищах, а кто имел силу в руках сбивались в ватаги и били на лесных дорогах поляков и гультящих.
За людьми, укрывшимися в лесах, поляки охотились с собаками. Но времена менялись. Уже охотились и за охотниками. Поляки, гультящие и запорожские казаки, страшась расплаты, спешили уничтожить тех, от кого могла придти расплата.
Среди грабителей и убийц сыскался такой, что превзошел всех остальных.
Атаман Наливайко из воинства пана Лисовского. Пришел он в Московию с запорожскими казаками. Не брезговал брать в свою ватагу всякого привыкшего к разбою. Слава о его жестокости ходила по Владимирской земле.
В город, в село, в деревню, в починки его ватага входила под рокот барабанов. Известно было, что на барабанах была натянута человеческая кожа, а тем, кто об этом не ведал, тому не затруднялись пояснить. Когда Наливайко входил в село, прежде всего перекрывали из села входы и выходы. Атаман скакал со своими ближними к церкви. Тогда было трудно найти церковь, которую не ограбили бы поляки. Наливайко разрушал церковь до тла. Если находили в церкви или у кого-то в избе иконы, их выносили на улицу и укладывали перед церковной папертью рядами. Наливайко, проезжая на коне, пробивал копьем головы святым, пророкам, Господа Иисуса Христа и Богоматери.
Горе было тем поселянам, что не успели бежать из села. Их сгоняли к церкви и раздевали до гола. Мужиков ставили по одну сторону, баб, девок и девочек — по другую. Мужикам связывали руки и ноги. Наливайко подъезжал к мужикам и зычным голосом вопрошал:
Читать дальше