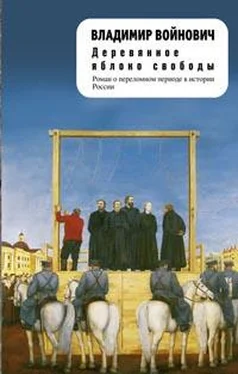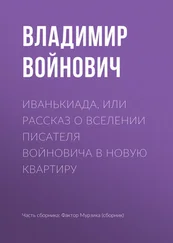Она задержалась на пороге и теперь молча смотрела на сестру с пронзительной жалостью.
«Уйди, не могу больше», – взглядом сказала Вера.
Дверь захлопнулась. Еле передвигая ноги, Вера дошла до своей камеры и свалилась на набитый соломой тюфяк в беспамятстве…
Она проснулась от ощущения, что кто-то стоит рядом. Вера вскочила. Перед ней стоял смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.
– Что вам нужно? – спросила она.
– Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании. Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение.
– Скажите Штромбергу, – ответила она, – что я никогда не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.
– И это все? – смотритель не уходил.
– Все!
– Какая вы жестокая! – смотритель вышел.
Она снова легла, подложив руки под голову. Какое отвращение вложил в свои слова смотритель! Что ж, пускай. Ему никогда не понять, что она чувствует. Да, жестокая. Но жестокая в первую очередь к себе самой. Да, она была строга к людям, требовала от них многого, но и себе не давала поблажки. Никогда и ни в чем. С тех самых пор, когда дала клятву сестре, никогда и ни в чем не отступала от своих убеждений, шла путем прямым, как стрела. Отказалась от всех соблазнов, отказалась от личной жизни, от любви, от семьи, от родных. Не позволяла себе лишний раз съесть конфету или надеть нарядное платье (если, конечно, не нужно было для дела). А теперь… Разве она попросила хоть какого-то снисхождения для себя? Наоборот, самым подробнейшим образом рассказала суду о своем личном участии во всех крупных делах, о своей связи с Соловьевым, о двух попытках покушения под Одессой, о своем участии в деле 1 марта, о своей роли в подготовке убийства Стрельникова. Военных приговорили к смертной казни. Но и ее, женщину, приговорили к тому же. И она взойдет на эшафот. Без улыбки (на улыбку нет сил), но достойно, и ни намека на просьбу о пощаде не услышат от нее палачи. Так может ли она в ее положении предлагать другим сделать то, на что не согласна сама?
Она не посоветовала Штромбергу просить помилования и сама не попросила. Если бы он попросил, она бы перестала его уважать.
На другой день ее перевели в Петропавловскую крепость. Отобрали собственную одежду, взамен выдали тюремную: холщовая рубаха, платок, огромные коты с портянками, суконная, изъеденная гусеницами юбка и пропитанный жиром, потом и грязью суконный халат с желтым тузом на спине.
Через неделю после суда пришел врач справиться о здоровье. Власти проявляли гуманность. Если насморк, то сперва вылечат, а потом уж повесят.
– Ничего, – сказала она равнодушно.
На восьмой день в сопровождении нескольких офицеров в камеру вошел старый генерал, комендант крепости. Приблизив к глазам бумагу, которую подал ему один из офицеров, генерал произнес скрипучим голосом:
– Государь император всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока.
Генерал со своей свитой давно вышел, а она все еще стояла посреди камеры, не в силах осознать услышанное.
«Государь император всемилостивейше повелел…»
Была ли она этому рада? Пожалуй, нет. В душе было полное равнодушие к своей судьбе и тупое оцепенение. «Всемилостивейше повелел…»
До этого казалось: все, что она могла в своей жизни сделать, сделано, теперь осталось только дождаться конца и встретить его достойно и без ненужной бравады.
Теперь ее лишали этой возможности и оставляли заживо погребенной в беспросветном мраке одиночной камеры, оставляли, как гласил окончательный приговор, навсегда…
А Штромберг и Рогачев, не попросившие помилования, были повешены.
29 сентября 1904 года от Шлиссельбургской крепости отошел пароход «Полундра». На борту в окружении жандармов стояла изможденная женщина пятидесяти лет от роду. Она жадно всматривалась в берега, освещенные тусклым осенним солнцем.
– Вера Николаевна, – предупредительно сказал жандарм, – сойдемте в каюту, простудитесь.
Вера Николаевна! Впервые за двадцать с лишним лет ее назвали по имени-отчеству. Двадцать с лишним лет у нее не было ни имени, ни отчества, ни фамилии. «Заключенная номер одиннадцать» – только так, соблюдая инструкцию, называли ее жандармы.
И вот пароход везет ее в Петербург. Еще несколько дней в Петропавловской крепости, а там – свобода. Правда, свобода неполная, свобода в виде ссылки в Архангельскую губернию, но по сравнению с одиночным заключением все же свобода. Думала ли Фигнер, что когда-нибудь доживет до этого дня? Ведь ее заточили в крепость без срока, то есть до самой смерти. «Отсюда не выходят, а выносят», – говорили тюремщики. Ее посадили в одиночную камеру, запретив переписываться с родными, чтобы она не знала ничего ни о ком, чтобы о ней не знал никто ничего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу