Казалось, забава подходит к концу, но для Нерона все только начиналось. Веселье его перешло — как это бывало с ним почти всегда — в какое-то неистовство, и он приказал слугам привести женщин.
Женщин для удовольствий всегда было много во дворце и возле него. Слуги привели трех — размалеванных и громко галдящих.
— Лечение! Лечение! — завопил Нерон, бросаясь к ним и с остервенением срывая одежду.
Женщины визжали, пытались увернуться, отбегали в другой конец комнаты, но он догонял их и разбивал о них яйца, плескал молоком. Когда не осталось ни яиц, ни молока, он приказал женщинам лечь на «больных» и потереться телами об их тела. Женщин было три, и Нерон, вскричав: «Одной не хватает, я заменю ее сам!» — бросился на крайнего (это был всадник, который вопил без перерыва уже второй час) и стал обнимать и гладить его, изображая страсть.
Короткое время спустя Никий, стоявший чуть в стороне, с удивлением увидел, что изображение страсти перешло в страсть настоящую: Нерон сладостно вскрикивал и все его тело трепетало. Наконец он забился в конвульсиях и затих, свесив руки со стола и прильнув щекой к щеке несчастного всадника, который уже не кричал, но смотрел на своего мучителя обезумевшим взглядом.
— Делайте то же! — приказал Нерон слабым голосом, но с явной угрозой, и женщины, со страхом косясь на него, попытались...
Разумеется, ничего у них не вышло, но это не их вина, они старались, как могли. Несчастные больные никак не могли им соответствовать — никаких признаков мужской страсти заметить было нельзя. К тому же тучный сенатор лежал с закрытыми глазами и, кажется, уже не дышал. Женщина сверху смотрела в его лицо с ужасом.
Нерон сполз с тела всадника на пол и, протянув к Никию руку, жалобно выговорил:
— Я умираю, Никий, спаси меня! — При этом по лицу его, по запекшейся коркой жиже потекли слезы.
Никий бросился к нему, поднял и с помощью слуг вывел из комнаты. Он собственноручно обмыл его тело, быстро вымылся сам, уложил императора в постель и сел рядом.
— Никий! Никий! О-о! — с протяжным стоном, едва слышно выговорил Нерон.— Скажи, ты любишь меня?
И Никий ответил, взяв его руку в свою:
— Люблю!
Однажды Нерон сказал Никию:
— Ты похож на смерть, лишь она любит человека неизменно и постоянно и в конце концов добивается его.
— Но ведь я добился тебя,— с улыбкой отвечал Никий,— и ты не умер.
— Ты так уверен, что я жив? — неожиданно отозвался Нерон, глядя на Никия странным взглядом, в котором были и любовь, и недоверие одновременно.— Значит, ты думаешь, что не похож на смерть? — спросил он некоторое время спустя.
— Нет,— сказал Никий уже без улыбки,— скорее я похож на собаку.
— На собаку? Почему?
— Потому что любовь к хозяину — состояние собаки, а не чувство. Она любит хозяина потому, что он хозяин, а не потому, что он хорош или плох.
Нерон ответил не сразу, отошел к окну, долго вглядывался в даль, затем проговорил не оборачиваясь, словно лишь самому себе:
— Бывали случаи, когда собака бросалась на хозяина.
Никий хотел возразить, но Нерон остановил его движением руки:
— А если я прикажу тебе броситься на другого, ты сделаешь это?
— Да,— кивнул Никий.
Никий чувствовал, что у него появились враги, и самым опасным был актер Салюстий. Внешне он выказывал Никию полное свое расположение и, разговаривая с ним, униженно улыбался. Но улыбка Салюстия порой пугала Никия — блеск в глазах актера казался ему зловещим. А когда тот спросил однажды как бы между прочим: «Что-то давно не видно благородного Аннея Сенеки. Ты не знаешь, он здоров?» — Никий понял, что немедленно нужно предпринять что-то, иначе Салюстий может выдать его Нерону, улучив момент.
Но что можно было предпринять? Припугнуть Салюстия? Но как и чем? Рассказать все Сенеке и попросить у него защиты? В конце концов Сенека придумал всю эту комбинацию с Салюстием, пусть он сам с ним и разберется. Это, казалось, наиболее простой путь и самый надежный, но Никию почему-то меньше всего хотелось прибегать к помощи Сенеки. Тем более что Сенеку он тоже побаивался до сих пор: он знал о Никии значительно больше, чем Салюстий, и в каком-то смысле был даже опаснее последнего. Тем более что теперь император был недоволен своим прежним учителем и не очень скрывал свое недовольство. По крайней мере от Никия. Он говорил, что старик стал дряхлеть и уже не может оставаться настоящим советником.
— Да и вообще,— продолжал он со своей особенной усмешкой,— кажется, наш философ живет слишком долго. Мне жаль его, долгая жизнь предполагает скорбь.
Читать дальше
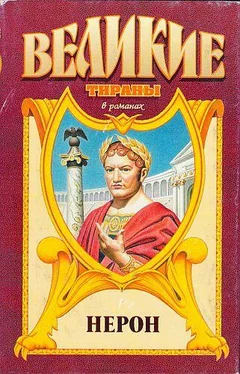
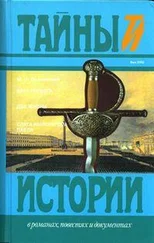








![Александра Лисина - Меч императора [litres]](/books/400492/aleksandra-lisina-mech-imperatora-litres-thumb.webp)
![Александра Лисина - Мар. Меч императора [СИ]](/books/402732/aleksandra-lisina-mar-mech-imperatora-si-thumb.webp)
