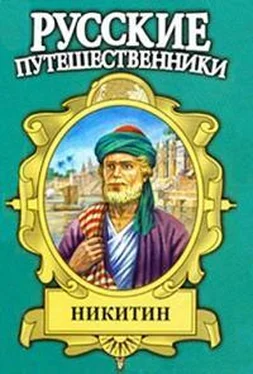Старшие рода не дают Офонасу долю поболее в общем деле. За никого почитают при дележе... Злобится Офонас и редко вспоминает о своей прежней, скоротечной любви, и просыпается в сердце его захолодевшем сострадание и нечто похожее на нежность к бедной Насте. Но редко находят на Офонаса незадачливого такие миги блажные. Недели, месяцы бегут, а Настя не видит от мужа ни взгляда ласкового, ни доброго слова... Нигде не находит она себе покоя и защиты: будит Офонас жену — пинает ногой, родня его бранит Настю хором, даже холопки хихикают глупо в лицо Настино...
Ударили на колокольне ко всенощной, а у Насти руки отяжелели — не подымаются... Вымолить бы смерть... «Эх, да если бы смертоньку Бог послал!..»
А какою, бывало, живою тревогой переполнялось её девичье сердце, когда прежде колокола гудели мерно... Руку на сердце положит и слушает, слушает... Умереть бы!.. А на кого Ондрюшу покинешь?..
Чудится Офонасу в тюремной каморе, будто минули трескучие морозы, оттепель пришла на двор, с крыш капает, дорога потемнела, серое небо вот-вот расплачется мелким частым дождичком...
Вечереет.
Больной Ондрюша лежит на лавке. Лицо его исхудалое с заострившимся носиком и светлые кудри, что разметались по подушке, всё оттеняется резко по стене чёрной, закоптелой. Запёкшиеся губы мальчика едва шевелятся, воспалённые глаза горят предсмертной тревогой...
— Мама! — прерывающимся слабым голосом говорил Ондрюша, высвобождая из-под одеяла свою ручонку. — Мама... бедная ты, бедная, бедная... Тятя...
— Слышим, родной, слышим! — успокаивает мать сына, глотая слёзы и ласково гладя белокурую головку. — Офоня! А, Офоня! — зовёт она.
— Чего тебе? — отзывается муж из сеней.
— Слышь, Ондрейко кличет...
Ондрюша смотрит на мать с напряжённым вниманием, и когда входит отец, мальчик облегчённо вздыхает и просит испить водицы.
— Ох ты, куморка, куморка! — добродушно бормочет Офонас.
Настя ревёт в голос. Офонас напрасно унимает её. Теперь уж она выбегает в сени и там тяжко и горько рыдает и, наплакавшись, возвращается к изголовью умирающего сына...
Присев на лавку подле больного, Офонас хрипло запевает старую потешную прибаутку:
Как у нас ли журавель,
Как у нас ли молодой
На полатях сидел,
Лапоточки плёл —
И себе, и жене,
Ребятишечкам по лаптишечкам,
А девчоночкам по чулчоночкам...
Настя обмирает, припав к стене, и внезапно просит мужа:
— Ты... Ты своё спой ему...
Никогда прежде не любливала она, когда Офонас принимался петь-выборматывать свои эти слова — то ли песни, то ли какие плачи... Сейчас он взглядывает на жену виновно, затем обхватывает голову ладонями... Но нет, не приходит своё... И он припоминает давнее, ещё от матери слыханное:
Сова-совушка,
Белая головушка,
Сова умывалась,
В лапти обувалась,
В лапти, в тряпички,
В теплы рукавички...
Лихорадочно громким тонковатым голосом, больным русским тенором запевает Офонас давнее, бабкино ещё заклятие. Настя вторит отчаянно и срываясь на вскриках своих слёзных, высоких:
У волка боли́,
У зайца боли́,
У медведя боли́,
А у Ондрюшеньки заживи!
У лисы боли,
У медведя боли,
А Ондрейкины боли —
Уйдите вполе.
Там им умереть
И дня не болеть...
Ой, мой маленький,
Ненаглядненький,
Мой хорошенький,
Мой пригоженький!
Ой ты, мой сыночек,
Пшеничный колосочек,
Лазоревый цветочек...
— Тошно, мама! — стонет Ондрюша, мечась по жёсткой постели. — Тятя!.. Тошно! Ох, тошнёхонько...
Горячка жгла Ондрюшу. Когда сумерки спустились, когда в небе сером угас последний дневной луч и на земле стемнело, горячка совсем уже сожгла мальчика и бросила его в холодные объятия бледной гостьи, смерти...
И вот — лежит Ондрюша на столе, в переднем углу; светлые волосы его гладко причёсаны, он наряжен в белую рубашку. Образок-складенец стоит у него в головах; восковые свечи горят, дорогие, горят и озаряют спокойное милое личико. Тонкие исхудалые ручонки легко покоятся на впалой груди. Тихая безмятежная улыбка не сходит с побледневших губ.
— Светик ты мой! Радость моя ненаглядная! — причитает Настя, обливаясь слезами.
Отец поцеловал холодный лоб сына, глазки, закрытые навеки, те самые глазки, что смотрели на него так ласково...
Офонас молча стоит у покойника в ногах и смотрит на бледное лицо, не отводя взора, не шевелясь. «Успокоился, успокоился голубчик наш!» — слышит Офонас причитания жены. Без стона, без вздоха тяжело опускается Офонас на лавку и замирает...
Читать дальше