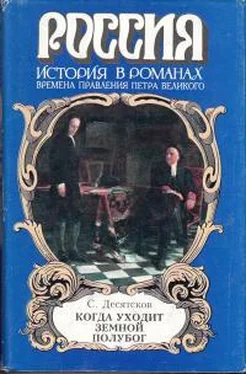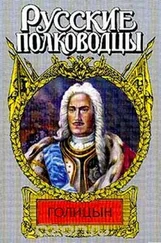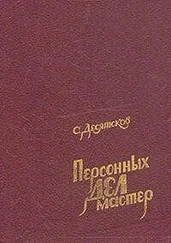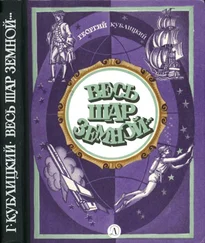— Умер, умер антихрист! — ©сип довольно рассмеялся, снял с головы монашескую скуфейку, процедил сквозь гнилые зубы: — Садись, племяш, радость-то какая, пить будем!
— Не смей о государе так говорить! — с солдатской прямотой рявкнул Роман, но Осип знай похохатывал:
— Антихрист, анчутка, окочурился! А у барыни характер бараний. Сломим! И расцветёт христианская церковь, как при блаженной памяти царе Алексее Михайловиче Тишайшем!
За столом налил чарку водки, крякнул и зашептал, страшно закатывая глаза, пророчествуя. Тени от его рук заплясали на стене, обитой холстом, диковинный танец; сурово смотрели из углов иконные лики — казалось, что запела жалобную песню сама византийская Русь!
Из-за диких дядюшкиных слов Роман даже не услышал шума во дворе. Двери распахнулись, и на пороге выросло некое снежное привидение. Дядюшка и племянник обмерли. А привидение уже надвигалось, расставив руки, дабы обнять:
— Братец!
Когда Никита после баньки, чистый, разморённый, но какой-то скучный, сел за стол, дядюшка принялся осторожно расспрашивать петербургского племянника про последние столичные новости. Но Никита не благодушествовал. Отвечал по-петербургски нехотя, сквозь зубы, без всякого почтения к сединам. «Ах, молодёжь, молодёжь!» Дядюшка всё больше мрачнел. А петербургский племянник говорил зло, быстро, не лукавя по-старомосковски.
— Что будет? Не житие святых. Будет отныне вольготное дворянское царство! — Никите вспоминались разгорячённые вином и водкой лица гвардейских караульных, расставленных по всей столице, как в осаждённом городе. — А старого не ждите... Так-то, дядюшка!
Роман слушал речь преславного российского живописца и чувствовал, что братцу не нужен сейчас ни дядюшка с его политичными интересами, ни он сам со своими родственными расспросами. Ему надо остаться одному, дабы петербургская мгла и тоска в его сердце улеглись, отстоялись. И Роман потушил свечи. Ночью ему чудилось, что братец скрипит зубами, дабы не плакать, но когда прислушивался — успокаивался. Братец в верхних покоях пиликал на скрипке. Весело трещал за стенкой домашний сверчок.
На другой день после Его смерти толпа, собравшаяся перед дворцом, поредела. Наступили обычные дела и хлопоты. Петербургские хозяйственные немки помчались в булочные за марципаном, хлебом и кофе. Мастеровые поплелись на мануфактуру. Купцы — в лавки. Город зажил обычной жизнью. Только вот часто говорили между собой о Его похоронах: какие они будут, где и много ль придёт народу? А после похорон стали уже вспоминать: сначала часто, а затем всё реже и реже, пока новые слухи о страшном каторжнике Ваньке-Каине и новых баталиях в Персии не заслонили и эти воспоминания. Теперь ежели его и вспоминали, то не все разом, а токмо отдельные лица.
Стало известно, что, узнав о смерти великого государя, прусский король учинил приличнейший траур, а короли датский и шведский — великое радостное шумство: балы, фейерверки и машкерады, во время коих тамошние придворные дамы так опились, что стали выделывать несусветные каприолы, показывая кавалерам нижние юбки и длинные аристократические ноги, чему русские послы зело дивились.
В марте под рёв труб и валторн тело перевезли в Петропавловский собор, где и отпели. Перед собором господа сенаторы и генералы между собой переругались, решая, кому надлежит нести прах. И так как все они были ради траура в чёрном платье, то напомнили безвестному десюдепортному мастеру Мине Колокольникову толпу мышей, с писком носившихся вокруг гроба.
И уже в апреле Мина Колокольников, приехав из Петербурга в Москву, зашёл в новую мастерскую учителя своего, живописца Никиты, и, застав там брата оного, Романа, и личного секретаря господина президента Камер-коллегии некоего немца Фика, показал им неприличную и богопротивную сатиру, названную «Как мыши кота погребают».
Ещё через месяц Петру Андреевичу Толстому приказано было учредить следственную комиссию, дабы дело об изображении кота Алабрыса раскрыть, виновников наказать и злостную картинку изъять. Но, как ни старался Пётр Андреевич, было уже поздно. Картинка пошла гулять по разным российским воеводствам, так что даже сей умудрённый государственный муж махнул рукой и сказал только слово: «Заговор!»
Тогда же Екатерина начала государственную деятельность и издала два новых указа к приличнейшим узаконениям Петровым. Первый указ запрещал доступ во дворец всем чинам ниже генерал-майора, второй — касался голубых бриллиантов. Отныне всем дамам Российской империи запрещено было носить оные бриллианты, так как голубой цвет шёл токмо к тёмным глазам императрицы. На том матушка Екатерина Алексеевна свою государственную деятельность прекратила, а править начал новоучреждённый Верховный тайный совет: в него из старых родов пустили сначала одного князя Дмитрия Голицына, принявши в должное внимание шестьдесят тысяч солдат, спрятанных в кармане его братца Михайлы на Украине, и отменное знание князем Дмитрием двойной бухгалтерии империи. А дабы матушка-императрица не мешала работе государственных мужей, Совет постановил все корабельные деньги отныне употребить для пополнения винного погреба Екатерины Алексеевны, полковницы и матери отечества.
Читать дальше