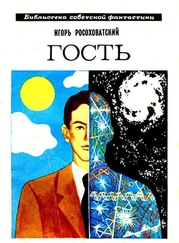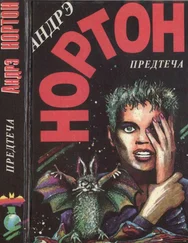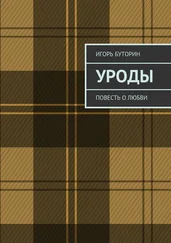Вскоре послышались крики и удары плетей, разгонявших зевак. На площади показались митрополичьи отроки в высоких меховых шапках. За ними шла восьмерка белых лошадей, тянувших по осенней грязи нарядные сани. В дождь ли, в пыль или снег — митрополит всегда ездил по Москве на санях — так уж было заведено. Сани подползли к царскому красному крыльцу, и владыка вошел во дворец. Вслед за этим отворились двери и для больших бояр.
Великий князь вошел в судную палату, осмотрел склонившихся в поклоне и подошел за благословлением к митрополиту.
— Я позвал вас, бояре, для честного суда, — начал он. — Дошло до меня, что некоторые указы мои вами не исполняются. Мы решили укрепить южные границы державы и указали выслать туда рабочих людей. Вы же этому делу противитесь, не хотите, чтобы города наши твердились и дорогу царю Ахмату загораживали.
Бояре зашумели и отозвались возмущенными голосами.
— Государь! — выступил вперед Федор Акинфов. — Мы тебе на все добрые дела совет и опора. Когда надо — ни живота, ни собины своей не жалеем. Но рассуди сам: подати мы платим тебе немалые, всякие ордынские тягости несем без ропота, на городской полк людишек и наряд ратный даем, а как ты на Новый город давеча шел, то присовокупили сверх обычного и в войско, и в обоз. Зачнется война с Ахматом, отдадим остатнее и сами пойдем противу супостата, ничего в отдачу не требуя. Верно?
— Верно! Верно! — поддержали его бояре.
— Ты же с нас не в войну, но в мир людишек теперь требуешь! Где же такое слыхано? С кем мы останемся, с чего жить станем? Неужто большим боярам на большую дорогу с кистенем идти? Не было в старину такого дела, и ты наши обычаи не иначь!
— Негоже всегда с оглядкой на старину жить, — терпеливо сказал Иван Васильевич. — Малое дите по одним законам живет, старец — по другим. Государство же — аки человек: рождается, мужает и старится. Для каждого времени у него свои законы.
— У государства, может, и так. А мы к старине нашей милой навыкли! — зашумели бояре. — Нет в старых книгах такого, чтобы людей по указу отбирать. Раз дашь, другой дашь, а там, гляди, и давалка отвалится!
Иван Васильевич поднял руку и, когда стих шум, проговорил:
— Пусть будет по-вашему, бояре. Только, чаю я, отрыгнется вам эта старина боле, чем мне. Требовать с вас отныне по старине буду, но и судить тоже по-старому, доброму. Согласны?
— На то твоя воля, государь, согласны, — ответили бояре.
— И ты, князь Лыко, согласный?
— А что же? — встрепенулся тот. — Я как и все.
— Скажи-ка, князь, сколь у тебя челяди в московской усадище?
— Да поболе, чем у иных, — важно надулся Лыко, — за две сотни будет.
— А зачем ты их в холоде и в голоде держишь? Они с такой жизни в разбой и бесчинство ударились. Сколь из них уже в тюрьмах перебывало?
— С лета по сю пору двадцать человек, — подсказал Хованский, — кто кнутом бит, кто батогами, кому руку секли…
Хованский удвоил число, но Лыко решил не перечить: эко дело!
— В старых грамотах прописано, что боярин за шкоды своих холопов должен платить повинную пеню, так? — обратился великий князь к судному дьяку.
— Так, государь, — поднял тот старый свиток. — А цепа пени до гривны серебра. Коли же володетель не схочет платить, преступник князю навечно отходит.
— Ну вот, — заключил Иван Васильевич, — кладем на круг винной пени по полугривне на человека, стало быть, внесешь в мою казну десять рублей или двадцать холопов своих отдашь!
— Это же грабеж! — Лыко растерянно огляделся вокруг и бросился к ногам митрополита: — Владыка, защити! Я лучше на храм божий это вложу!
Филипп возмущенно затряс головой:
— Церкви не нужны грязные деньги, ибо сказано: «Приноса не приноси на божий жертвенник от неверных, еретиков, развратников, воров и властителей немилосердных, кто томит челядь свою гладом, ранами и наготою».
— Да то не все… Числятся за тобой вины и покрепче, — продолжил великий князь.
Лыко сделался белым как полотно. «Неужли про царево письмо и про мой уговор с Лукомским вызнал?» — со страхом подумал он.
— В твоей загородной усадьбе разбойный люд жил, гостей честных и людей служилых по дорогам грабил. И с награбленного тебе немало перепадало.
«Слава богу, не знает! — успокоился Лыко. — А супротив этого отговорюсь».
— Не ведаю, о чем глаголишь, государь, — сказал он и прибавил с обидой: — Оболенские сроду в ворах не числились.
— Лукавишь, князь, — вступил Хованский. — Главарь разбойный Гришка Бобр рассказал на допросе о грабленом. Много они однажды у сурожан сосудов драгоценных взяли: кубков, ковшей, стаканов, чарок, блюд, мисов, — и многие теперь из них на столе у тебя.
Читать дальше
![Игорь Лощилов Предтеча [Повесть] обложка книги](/books/27567/igor-lochilov-predtecha-povest-cover.webp)