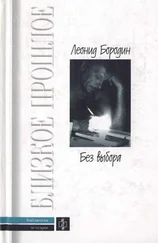Девка млеет от счастья, все тянется к усам, телом молодым трепещет, и уже не сладости ей надобны, но услады тайные, коим обучен боярин. Да и чего там, самое время… Но в дверь одной головой всовывается мамка и, вытаращив глаза, шипит, что на дворе человек объявился не холопского звания, себя не называет, но требует разговору с боярином.
— Гони в шею! — велит Олуфьев.
Но мамка головой мотает, руками разводит, дескать, легко велеть «в шею», а как он по делу пришел, после боярин на ней же, безвинной, и гнев испытает…
— Ладно, — уступает Олуфьев, — веди незваного…
Девка огорчена, слезинки хрустальные на ресницах, припала к груди, пальчиками остренькими в рукав рубахи вцепилась, шепчет чего-то. Олуфьев гладит ее плечи, успокаивает…
В дверях громила косматый, бородатый, в рваной однорядке, на роже следы побоев свежих.
— Признаешь, боярин? — ревет жалостно и на колени — бах! Горнила аж всеми половицами содрогается.
Ну как же, такую рожу, раз увидев, позабудешь ли! Первый купец и, если по-заморскому, маркитант войска казацкого, бывший дворовый князя Масальского Акинфий Толубеев — кто ж еще! Плут и разбойник, сколько ему всего с рук сходило и сколько в руки его загребучие перепало по милости Заруцкого, того и жидам иным не снилось, и на тебе — рожа бита, как у холопа последнего.
— Разор, боярин! — ревет громила, сперва ладошами толстоперстыми, а после и лбом об пол. — Едино слово твое, надежа! Замолви царице, я же ей верой и правдой… на всякое повеление усердием… Что одежа царская, что каменья — все через меня…
— Не вопи! — грубо обрывает его Олуфьев. — Говори дело да рык свой звериный умерь, ишь как девку напугал, косматый!
— Полный разор, боярин. Казаки Заруцкого струги пограбили и отобрали и насады… Били нещадно… Людишек моих, кто воспротивился, плетьми да саблями, а пес Карамышев меня пистолем по рылу — и все то будто бы по указу Заруцкого… Насады и струги угнали…
— Угнали? Куда угнали? — Олуфьев чувствует, что трезвеет на каждом слове Акинфия.
— Знаю куда! В охорону за Теплый стан. Туда ж свои струги согнали, и Муртазы кызылбашевского лодьи там же. Сказывают, пожечь хотят, чтоб никто к Одоевскому не убег. Так нешто я побегу! Нешто я враг себе! А кто убечь задумает, все одно убежит… Встрянь, боярин! Худое то дело — лодьи жечь да своих зорить.
— Это ты прав, — бормочет озадаченно, — худо дело, совсем худо.
Тихо девку с колен своих спускает, шлепок ей в места мягкие, с чем та и убегает прочь, звеня монистом и заревываясь. Акинфий опять лбом об пол. Но Олуфьев больше не позволяет ему вопить.
— Дело худо, и спасибо, что известил о том. Только вот твоей-то беды не пойму. Струги да насады, что казаки угнали, разве ж твои?
— Помилуй, боярин, а чьи ж, как не мои? О том всем ведомо.
— Ай, врешь, холоп! Врешь! За струги не скажу, а насады по Волге ходили, когда ты еще у князя Масальского нахлебничал. Тереня Ус караван пограбил ниже Самары, купцов и людей торговых в воду покидал, а насады с добром к Заруцкому привел. Заруцкий их тебе отдал для пользы дела. Заруцкий дал, Заруцкий взял. А ты при чем?
Медленно поднимается с колен Акинфий Толубеев, на роже холопства нет, злоба одна, бурчит сквозь зубы:
— А служба, она не в учет…
— За службу ты пистолем по рылу получил, а не саблей по шее, и то ценить должен, потому как Васька Карамышев саблю в ножнах удержать может только по указу Ивана Мартыныча, и тому радуйся, а не вопи. Ступай-ка с Богом да отыщи себе нору поглубже, скоро большая охота будет, ни един след не затеряется — ни твой, ни мой… Ступай…
Какой думой живет холоп? Длина той думы один день? Тем и счастлив, что завтрашнего дня не прозревает? Холопское однодумье для властелина — простор для маневра, и в том тайна успеха. Но, однако ж, подобие Божие и в холопе. Однажды узрит день завтрашний, и тотчас поколеблется гармония и поколеблются замыслы властелина, праведные или неправедные. Опять же все по воле Божией и попущению Его, дерзает человек — Господь на дерзание не посягает, но попущает дерзать, а за дерзание человек получает кару или награду, но не Божию — не Господь же рано или поздно посадит на кол Акинфия Толубеева за воровство и измену, а Разбойный приказ. Так в чем воля Божия, как узреть ее смертному, хотя бы тому, чья дума не про один день?…
Олуфьев стоит у двери, трет виски, за дверью слышит шепот и всхлипы, но вот слышит и другое — голоса грубые, и мамки голос визгливый, и топот сапог в сенях. Дверь распахивается — вот уж диво: на пороге Тереня Ус и Валевский, атаман черкас. Ранее даже в ратном деле рядом не оказывались, а за одним столом тем более. В сенных сумерках лица атаманов черны, словно души обнажились и выявились в чертах. Из-за спины Олуфьева свет лампад и свечей падает на их лица, искажает тенями, как шрамами, — сущие упыри…
Читать дальше