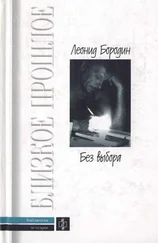— Ну вот, — ухмыляется Олуфьев, — почище черкас…
— Э-э! — кривится атаман. — На то, боярин, и щука в реке, чтоб карась не дремал! После гульбы той поутру Ерохина да приспешников его безголовыми из отхожего места выудили.
— А все одно идут на тебя… К осаде надо готовиться. До зимы продержаться можно…
— Это ты оставь, боярин! — Заруцкий резко встает, кресло на полсажени прочь, голосом и ликом зол. — В советах твоих нужды нет. Ради царицы терплю тебя, знай о том и царицу на слабость не подбивай. Ты — шляхтянский каприз, а кто я для нее, знаешь? То-то! Не мне ты верен. Царице. Добро! С ней у меня одно дело. Пойдем на Самару, могу всех стрельцов астраханских тебе под руку отдать, яви умение воинское, знаю, ведомо тебе сие искусство. Мало стрельцов — конницы дам для маневру, но намерениям моим не перечь и людей моих с толку не сбивай, не потерплю!
Уходит Заруцкий, не оглядываясь и двери за собой не закрывая. Более нет сомнений, дело идет к скорому концу, коли не понимает атаман, что сей день он бельмо в глазу Михаила Романова или того, кто стоит за ним. Москве еще с Польшей споры решать о земле смоленской, и за спиной у себя Заруцкого с Мариной оставить не можно никак. Одоевский и верно не смел, да не ему решать о сроках кампании, и, если Хохлов уже в пути, счет на дни пошел… Вразуми, Господи! С Мариной поговорить? Нет, пустое дело…
Услышав шаркающие шаги Казановской, Олуфьев спешит к выходу, болтовня фрейлины ему сейчас не по ушам. А куда идти, с кем говорить? Один! Ноги, однако же, сами несут его вдоль стены кремлевской, а глаза отмечают мелочь всякую, что при осаде худом или добром сказаться может. Ведь не успеет Заруцкий даже выйти из Астрахани, осады не избежать. Если Хохлов и Одоевский одновременно подойдут, обложат крепость непролазно. Когда б Иштарек был верен, мог бы набегами осаду рвать раз от разу, тогда и вылазки успех имели бы… Но князь ногайский издавна к Москве склонен, и сыновья-заложники не станут помехой в измене…
А солнце палит над головой совсем по-летнему. В шапке голове жарко, ногам в сапогах, и полушубок, мехом подбитый, с плеча просится…
С волжской стороны, судит Олуфьев, подступа к кремлю нет: стена высока, а берег узок, силы не собрать, большим нарядом легко побита будет в лодьях на подходе. Опасность далее, за стенами Белого города, там и ворот больше, и стены ниже, и застроек деревянных много, что пожарам доступны. Вот если б Земляной город выжечь саженей на сто вдоль стен Белого города… Заруцкий пойдет на это! И без того горожан разорил, пытками и казнями застращал, купцов и менял ограбил, виноградные посадки, едва астраханцы обучились тому, конями повытоптал, скот порезал — что бунта нет, так то везение казацкое, хотя чего бунтовать, когда вот-вот царские войска подойдут. Тайные грамоты о том давно уже по рукам ходят…
От Пречистенских ворот, что кремль с Белым городом соединяют, навстречу толпа казаков-волжан, и Тереня Ус, конечно же, в голове. Олуфьеву дыхание вперехват. Промеж казаков — растерзанный, окровавленный, почти бездыханный, провисший в казацких руках хохловский посланник. Только по желтым калигам и узнать можно. Недолго ж погулял он по земле астраханской! Пустовавшая до того проезжая улица от Пречистенских ворот до Красных, словно по тайному сигналу, заполняется людьми: дети боярские, что в дворах на постое; монахи Троицкого монастыря; купцы, кого еще люди Заруцкого не повыгоняли из их кремлевских дворов; с митрополичьего двора спешит к толпе любопытный до всяких вестей и сказок Маринин любимчик, ревнитель латинства в Маринином стане патер Савицкий; боярин Волынский с людьми, донцы из кремлевской охраны — эти встревожены многолюдьем, нагайками отхлестывают от ворот голытьбу астраханскую, что более прочих возбуждена поимкой романовского лазутчика. А что лазутчик — о том крик казачий на весь кремль. В руках Терени бумаги. С грамотами и письмами шел в Астрахань казак Федор, Олуфьеву же про то не сказал, значит, до конца веры не имел. Олуфьев выходит на толпу хозяином, и вот уже друг против друга он и Тереня Ус.
— Двух казаков моих порубил, пес романовский, живым не давался. Однако, думаю, если горилки влить в пасть, очухается, поторопиться только надо, пока не сдох.
— Давай его к воеводскому двору, — велит Олуфьев.
— А куда ж еще! — буркает Тереня, косится на Олуфьева, но тот делает вид, что тона не замечает, и велит донцам дорогу к воеводским хоромам перекрыть, что донцы исполняют охотно. Оттесненные к Пречистенским воротам, казаки бранясь и плюясь, подчиняются, хотя за ворота не уходят, остаются возле них. Олуфьева трясет за рукав Савицкий и хриплым голосом требует ответа — верно ли, что Терек изменил и что Одоевский уже на Ахтубе. Волынский с дворовыми казаками тоже пытается пристроиться, но донцы оттирают его к митрополичьему двору, и до воеводского крыльца, кроме Олуфьева, Терени и Савицкого, добираются лишь двое волгарей, что держат почти на весу хохловского посланника. По всему пути от Пречистенских ворот, как заячьи следы — пятна крови…
Читать дальше