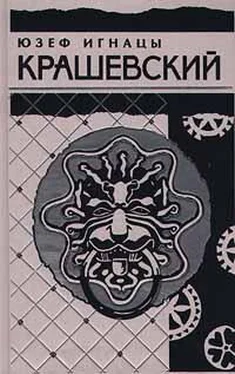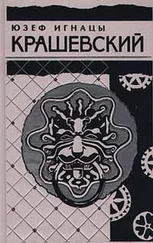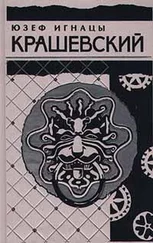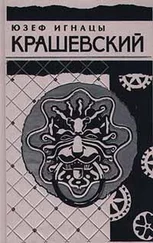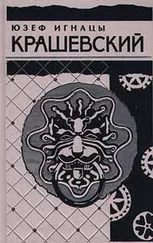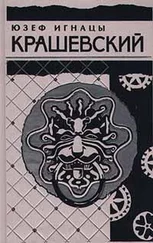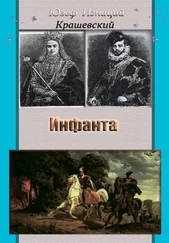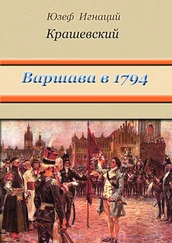— Как это, бивал? — воскликнул удивленный Тадеуш. — Он смел тебя ударить!
— Что же тут удивительного, разве я не жена его!
— Правда. Но чем же ты виновата, что красива, и все это видят?
— Я в этом не виновата, но терплю за это. О, уже сколько раз молила я Бога и Божию Матерь, чтобы освободиться мне от той людской напасти.
— И тебе не по сердцу, коли кто-нибудь полюбит тебя?
— К чему это поведет? Да еще и муж бьет за это. А если бы не бил, что у них за любовь?
При этом восклицании, произнесенным тихим голосом и со вздохом, пан Тадеуш задрожал и уставил на нее глаза.
— Как это? А какую же другую любовь знаешь ты?
— О, знаю, — ответила женщина, опуская глаза, — слышала о ней, когда была во дворе; не раз слышала, как говорили, и видела, как любили по-господски. О, это не так, как дворовые и мы. Та господская любовь какая-то очень хорошая, хоть, грустная, а очень приятная. И она кончается, говорят, всегда печально. Так сказали мне дворовые.
— Правда, правда, это кое-что другое, не ваши, не мужицкие ухаживания, Уляночка, — отвечал Тадеуш. — Но у вас в деревне коли муж прибьет, мать побранит, женщина поплачет, а — мужчина напьется, тем и конец. Там этим и кончается, а за этой господской любовью следует часто болезнь, а часто следует и смерть.
Уляна ничего не сказала, но, скрывая какое-то чувство, ясно обозначавшееся на лице, или, может быть, вздох, отвернулась к курицам, и Тадеуш должен был выйти.
Выйдя, он почувствовал, как стыд охватил его вместе с блеском солнечного дня и свежим воздухом. Вспомнил он, зачем входил он в избу и с чем вышел из нее. Сердце его билось, а лицо пылало; и все это для простой деревенской бабы, для простой Гончарихи!..
— И она, — говорил он сам себе, — знает, что есть какая-то иная любовь, что есть какое-то лучшее счастье, стоящее жертв; что на том же свете Божием, на котором она проводит тяжелые часы между колыбелью дитяти, конюшнею и хлевом, есть иная жизнь чувств, жизни сердца, безумья и счастья. Бедная Уляна, зачем было заглядывать во двор и слушать сказки, и верить сказкам! Сказки господские — яд… Не лучше ли было бы ей остаться, как другие, счастливою испорченною, как ее сестры, чем бедною и чистою, как небольшое число избранных мучеников, каких не найдешь между ее ровнями. Теперь наслаждалась бы с каким-нибудь дворовым, не заботясь о муже, не чувствуя сожаления этого о другой какой-то любви, не было бы ей скучно в избе. Но это ребячество, ребячество, мечта, вздор! Это хитрость дворовая, и, конечно, ничего больше! Ха, ха! И меня надула на минуту! Плут-баба с своими россказнями о любви! Должно быть, попробовала ее!
Так думая, пан Тадеуш шел берегом озера к дому, опустив голову; изредка поглядывал он на дом, уединенный, тихий, как была его новая жизнь, то опять поглядывал на деревню и на черную старую церковь, и в поникшей, словно отяжелелой, голове его путались думы и беспокойные вопросы о будущем.
У каждого человека три жизни: одна, по которой он плачет, другая, которою он на деле живет, и третья, на которую он надеется. Эти три жизни должны быть у каждого и где не достанет одной из них, там пустое место заступает страдание, и всем нам необходимо равно оплакивать прошедшее и с грустью вспоминать о нем, страдать под тяжестью настоящего и заглядывать в ясное будущее.
Этой третьей жизни в эту минуту не доставало Тадеушу и потому-то так печальны были его думы. Одна женщина, один взгляд, одно слово сделали ему противной ту жизнь, которую, еще несколько дней тому назад, он считал наиспокойнейшею и наисчастливейшею. Одна женщина, и какая женщина!
А вечер спускался на землю тихий, спокойный, деревевский; солнце алело за сосновым лесом, рогатый скот возвращался с пастбища и, опустив головы, шел в свои хлева, прыгали козы, которых в таком большом количестве держат жители Полесья; несколько овец с длинною шерстью и на тонких ножках бежали, блея, к избам, дикие утки летели над озером; ветер подымал волны и разбивал их о берег у дороги, придавая им какой-то непонятный голос, пленительный, как все звуки окружающей нас природы. В этой картине, такой обыкновенной, такой повседневной, была какая-то печальная прелесть, была жизнь, но жизнь, которая не удовлетворяла бы сердцу, несколько взыскательнейшему, жизнь может быть слишком бесцельная.
Тадеуш смотрел, находя все, что окружало его, прекрасным, и в то же время так печально билось его сердце, что он остановился и сел, чувствуя потребность погрустить, потребность потосковать. Вся эта движущаяся панорама прошла перед ним по другому берегу озера и, миновав корчму, двинулась к селу. Он сидел и смотрел, а глаза его невольно обращались к Уляниной избе, из которой подымался черный, смолистый дым. Вместе с ревом скота слышались голоса возвращающихся с поля крестьян и веселый крик гусей и детей, встречающих матерей. «Есть же счастье и в этой жизни — подумал Тадеуш — и скорее еще, может быть, и дешевле достанется оно, чем другое. Хлеб для этих людей все, — а благодарение Богу, они не были и не будут голодны».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу