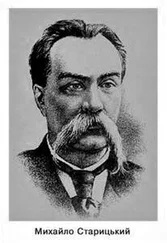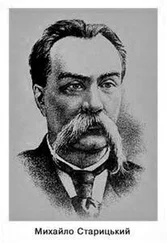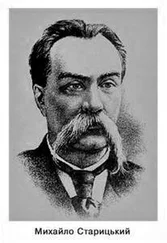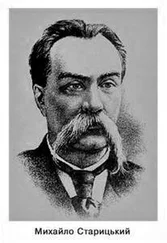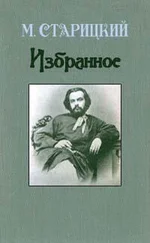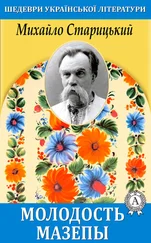— Разве не с татарами покойный гетман Богдан выбил всю Украйну из лядского ига? — произнес владыка, устремляя на Богуна свой проницательный взор. — Когда огонь в разумной, и твердой руке, он не делает зла, а если выпустишь его — рук, тогда жди пожара.
— Святое слово, отче! Но Туреччина…
— Туреччина еще впереди! — вскрикнул Дорошенко. — Теперь нам надо только освободить отчизну, а там посмотрим! нужно ли нам искать еще побратима, или удержимся и сами. Будем же, друзи, готовиться к «остатнему» бою, — отныне мы уже не союзники польского короля.
— Слава, слава тебе, гетмане! Вот это так дело! — вскрикнул Богун, заключая Дорошенко в свои объятия.
— И да будет между нами едино стадо, един пастырь, заключил владыка, осеняя Дорошенко крестом.
Весть о решении гетмана разнеслась на другой день с быстротой молнии по всему замку, а оттуда и по Чигирину. Восторженное настроение охватило всех. Имя Дорошенко повторялось всюду. Открытый разрыв с ляхами и решение до бывать левую Украину привлекли к нему многих.
В замке закипела горячая работа. Готовили универсалы, отправляли послов на Запорожье и к татарам, собирали полки, отсылали гонцов в левобережные города.
Мазепа стоял на носу байдака, несшегося вниз по течению, и ощущал, как в груди у него приятно улеглось спокойствие после ужасной тревоги, испытанной им во время перехода через пороги; теперь старый батько Днепр нес победоносно царственным спокойствием свои глубокие воды, и такое ай радостное, победное чувство овладевало и молодым подчашим, смело смотревшим вперед на зыбкую, прозрачную гладь, загоравшуюся вдали алым заревом от лучей склонявшегося к горизонту солнца. Как эта покрытая золотою мглою даль не давала глазу проникнуть в свои тайны, залитые блеском и сверканием розовых лучей, так загадочно и ярко светилась в сердце Мазепы надежда на то, что и его жизненный путь озарится радостями и поведет к победе и счастью. Даже томившая его во время пути разлука с Галиной, с этим чистым и прекрасным ребенком, овладевшим его душой, начала ослабевать в своей едкости, заглушаясь другими сильными ощущениями и ожиданием того, что посулит ему в дар будущее. Кроме того, Мазепа утешал себя еще тем, что на Сечи он пробудет недолго, а затем на обратном пути непременно заедет на хутор. Постоянно меняющиеся картины берегов отрывали от Галины его мысли, и наконец Мазепа совершено погрузился в созерцание окружающей красоты.
Дикие скалистые берега Днепра уже отбежали назад, а теперь тянулись все волнистые, покрытые высокой травой. Чем дальше, тем шире становилось лоно реки. И эта спокойная широкая лазурная дорога, и эта безлюдная величественная степь, прильнувшая к ней, и этот живительный, полный свежего аромата воздух вливали в сердце чувство необычайной бодрости, воли и отваги… Уже все пороги остались далеко за путешественниками, но все-таки по дороге то там, то сям попадались огромные гранитные скалы, подымающиеся из воды.
— Камень Перун, Богатырь, Ластивка! — перечислил их седой казак «лоцман», сидевший за Мазепой на куче свернутых канатов.
Но вот широкое русло реки начало дробиться выплывавшими навстречу островами; покрытые сплошь яркой изумрудной зеленью, они словно вырастали из прозрачных струй воды. Вот лодка вступила в широкий пролив, образовавшийся среди двух длинных островов. Свежей лесной прохладой и ароматом пахнуло на путешественников; длинные тени рощицы, покрывавшей весь остров, закрывали собою пролив. Мазепа сбросил шапку и глубоко вдохнул в себя чудный лесной воздух.
— «Виноградный» и «Соловьиный»! — возгласил седой лоцман, указывая на острова. — Здесь мы всегда «спыняемся» кашу варить; ну да теперь нечего; скоро уж и Сичь.
Название острова было действительно справедливо: над островами и над проливом кружились массы птиц; соловьиные трели оглашали весь воздух. Кругом было так вольно, так дивно прекрасно! И эта красота, эта необъятная ширина развертывающейся перед ним картины наполняла сердце Мазепы чувством необычайной любви и близости ко всему окружающему его; он чувствовал, что его сердце связывают с этой землей такие крепкие корни, которые не разорвать никогда, никому и ничему; он чувствовал, что этот синий батько Днепр, и эта вольная степь, и это родное, ласковое небо, опрокинувшееся над ним таким безмерным куполом, дороги ему, как что-то живое, одушевленное, как нежная рука, как улыбка, как голос матери! Что, если оторвать его от них — он зачахнет, завянет, как срубленное молодое деревцо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу