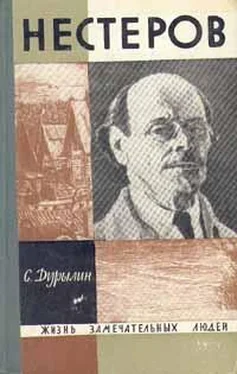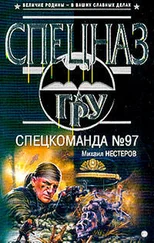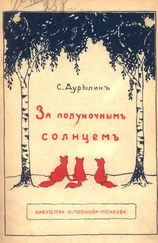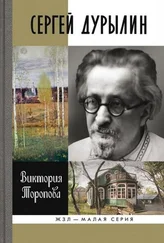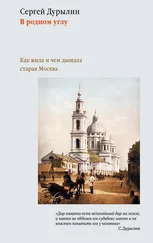Этот эпизод, случившийся в то время, когда Нестеров уже задумал «Пустынника», мог бы послужить сюжетом для картины, которая вряд ли уступила бы в яркости и остроте перовскому «Сельскому крестному ходу на Пасхе».
Живя в небольшом монастырьке под Москвой, давшем художнику материал для многих его картин, Нестеров писал оттуда в 1895 году Турыгину:
«Вот уж 5 дней, как я… в монастырской гостинице в 2–3 верстах от Троицкой лавры, в так называемых «Пещерах «Черниговской». Пещеры эти однородны по характеру с Киевскими и похожи на катакомбы. В одной из пещер находится чудотворная, очень чтимая икона Черниговской Божией Матери. Икона эта собирает сюда многие тысячи богомольцев, которые несут и везут многие тысячи рублей. Обитель цветет, монахи грубеют и живут припеваючи, мало помышляя о том, о чем, по положению, они должны помышлять неустанно».
Горький контраст между народною верующею толпою и «живущими припеваючи» монахами и духовенством послужил темою к картинам Савицкого «Встреча иконы» и Репина «Крестный ход в Курской губернии», и нельзя сомневаться, что в наблюдениях Нестерова нашелся бы немалый материал для картин подобного содержания. Однако свою задачу Нестеров видел в другом.
Вспоминая свое детство и юность, он рассказывает в неоконченной автобиографии:
«Жил в ту пору в Уфе, в бедном приходе, за Сутолокой, в Солдатской слободке батюшка, — его все звали по его приходу «батюшка Сергиевский», — человек на редкость добрый, благожелательный, бескорыстный. Его все в городе любили, ставили в пример. Странный был этот отец Федор… Он был в душе поэт, художник, музыкант. Писал стихи, расписывал иконостасы в своей убогой кладбищенской церковке, играл на скрипке, а как пел!.. Его приятный, задушевного тембра голос шел в душу… Кто у него не бывал! Ведь он был никем не заменим, его любил простой народ в «Солдатской слободке», шел к нему со своим счастьем и несчастьем, шел доверчиво, полагаясь на его мудрый суд… На мою долю в жизни выпал не один такой отец Федор. Правда, я не искал иных, меня тянуло, как художника, к типам положительным. Мне казалось, что в нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя, свою родину».
Когда бы и кому бы ни рассказывал Нестеров о своем детстве и юности, он всегда с радостною благодарностью вспоминал об отце Федоре. Существование «отцов Федоров» в русской жизни было для Нестерова столь же реально, как и существование тех монахов, о которых он то с кипящим, то со сдержанным негодованием писал в своих письмах.
И когда, вспоминая обличительные картины Перова, Савицкого, Корзухина, Нестеров замечает: «…в нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя, свою родину», — он не отрицает ни значения, ни пользы этих сатирических произведений, а для их персонажей находит суровые слова осуждения. Но на свою долю Нестеров считает нужным взять иную задачу — показать «отцов Федоров», искреннюю веру соединявших с искреннею любовью к народу.
Нестеров с юных лет любил тех русских писателей, которые ставили себе и решали подобную задачу. Для Нестерова идеалом здесь, как и всегда, был Пушкин. Автор «Пустынника» указывал с восторгом, что в «Борисе Годунове» Пушкин с равным художественным совершенством и жизненною правдою изобразил бродягу Варлаама и летописца Пимена. Нестеров сетовал, что лишь немногие из русских писателей были в силах пойти за Пушкиным с его Пименом. В число этих немногих Нестеров включал Лескова с его «Соборянами», с его простецом-монахом Кириаком в повести «На краю света» и Л. Толстого с его рассказом «Три старца». На первое место Нестеров ставил здесь Достоевского с его главой «Русский инок» в романе «Братья Карамазовы».
Еще в 1884 — 1885 годах Нестеров задумал ряд рисунков к этому роману. Из четырех рисунков три посвящены теме «Русский инок»: «Старец Зосима благословляет народ», «Больную женщину подводят к старцу Зосиме» и «Посещение великого молчальника отца Ферапонта».
Эти рисунки утрачены. Михаил Васильевич об этом жалел: «В них было кое-что. Я плохой иллюстратор, но к Достоевскому меня влекло. Думается, тут я мог бы сделать что-то путное».
Влекло Нестерова ко многим образам Достоевского — к Алеше и Ивану Карамазовым, к «Запискам из Мертвого дома», к «Идиоту», но привлекал особо один образ — старца Зосимы. На Зосиме, как на пушкинском Пимене, Нестеров убеждался, что можно построить правдивый художественный и вместе народный образ из иного жизненного материала, чем тот, из которого строятся Варлаам с Мисаилом.
Читать дальше