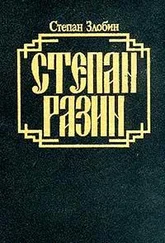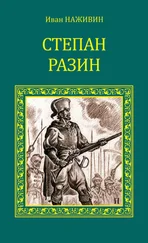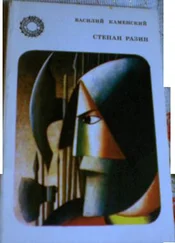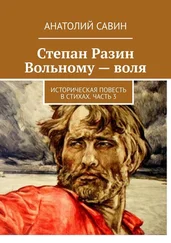В передней коломенского дворца – его иеромонах Симеон в своих виршах восьмым чудом света называл, – собралось заседание Боярской Думы. В высоких горлатных шапках своих, шитых жемчугами, в тяжелых с длиннейшими рукавами кафтанах, в золочёных, засыпанных камнями сапогах, бояре сидели, уставя брады своя, как какие-то боги-истуканы величественные, но точно неживые. Бояр собралось совсем немного, не более двадцати, – остальные были все в разъезде. Особенно хорош был, как всегда, князь Иван Алексеевич Голицын, Большой Лоб, который был убеждён, что главный смысл Думы не в рассуждении, не в строительстве дела государского, а только вот в таком торжественном сидении с царём. Горячий и властный князь Ю. А. Долгорукий хмурился и нетерпеливо хмыкал носом. Князь Ромодановский едва сдерживал зевоту. Дремал старый Морозов, которого разморила жара. Ласково смотрел своими хитрыми, лисьими глазками Трубецкой, которого Алексей Михайлович не любил за хитрость, угодничество и медоточивый язык. Языков снисходительно щурил глаза и всё отмечал про себя разные недочёты в обхождении придворных. Сумрачен был Ордын, и прекрасные тёмные глаза его смотрели точно в себя, а когда нужно было ему говорить, то он делал явное усилие. Но только его да Сергеича да, пожалуй, Долгорукого и слушал царь внимательно. Он вообще втихомолку недолюбливал то родовитое боярство, – их всего, правда, к тому времени шестнадцать родов и осталось, – которое не только оказалось совершенно несостоятельным во время Лихолетья, но в значительной степени своим баламутством его и вызвало. Поставили Михаила Фёдоровича на царство, в сущности, середние люди, и только, за немногими исключениями, среди них и находил Алексей Михайлович добрых советников. А те, высокородные-то, всё больше и больше превращались в зяблое упавшее дерево. И знал он, что высокородные отца его промежду себя презрительно воровским царём зовут и укоряют, что дед его, Филарет, Самозванцу да тушинскому вору прямил...
Алексей Михайлович посмотрел в свою записочку – о каких делах говорить боярам – и сказал:
– Вот, бояре, шведского посольства гонец домой всё просится за новыми приказами: сидеть-де, надоскучило, – как вы о том деле мыслите?
– Что ж, что надоскучило? – проснулся Морозов. – Посидит, не каплет... А то что это будет, ежели он о наших нестроениях везде звонить будет?...
– А нешто скроешь? – сказал царь. – По-моему, и отпустить не будет худа. Ты как, Сергеич, полагаешь?
– И я так полагаю, государь... – сказал Матвеев. – Ты сам изволил в курантах видеть, что о наших делах там пишут чуть не в каждом номере. И всё под одним заголовком: Tragoedia moscovitica – по нашему это будет... действо московское... – нашёлся он.
– Из-под рук не красавица... – вздохнул Алексей Михайлович. – Шила в мешке не утаишь... Ты как, князь Юрий Алексеич, полагаешь?
Бояре потянули за царём, и думные дьяки – они в заседаниях Думы всегда стояли, пока царь не приказывал им садиться, – записали решение: «Царь указал и бояре приговорили шведам гонца домой послать – разрешить». Князь Иван Алексеевич значительно поводил своими нежно-голубыми и невинными, как у младенца, очами. Затем Алексей Михайлович, заглянув в свою записочку, поставил на обсуждение вопрос о новом окладе стрелецких денег: платить его городам вмочь или невмочь, а если невмочь, то для чего невмочь? С ним справились довольно быстро, и Алексей Михайлович обратил внимание бояр на то, что новые храмы стали строиться со всё большими и большими отступлениями от святоотеческих преданий: все эти луковки, шатры, бочки, может, и пригожи на хоромах, но для храма не годятся. И было постановлено ещё раз повторить предписание, ничего не претворять по своему измышлению и церкви Божий строить по манере греческой, по правилам святых апостол и отец, чтобы была о пяти верхах и полушарием, а не шатром. На очереди было дело о воеводе уфимском, который крепко нагрешил во многих делах, в переговорах с калмыками уступил им обратно захваченных ими православных пленников. И приказал царь, и бояре приговорили думным дьякам пометить и их приговор записать: послать в Уфу «сыщика», а воеводе написать наказ, как вести ему дело, отнять у него честь (чин) да написать ему с грозою и милостью, чтобы он к нам, великому государю, вину свою покрыл службою, казне сделал бы прибыль свыше прежнего и тем возвратил себе отнятую честь, а сменять его – на этом особенно настаивал практичный Алексей Михайлович, – убыточно и «Уфе к изводу», разорительно. Если же окажется правдой то, что слышно о пленных, «за то довелася ему смертная казнь, а то самое лёгкое, что отсечь руку и сослать в Сибирь, отписав на государя все его поместья и вотчины».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу