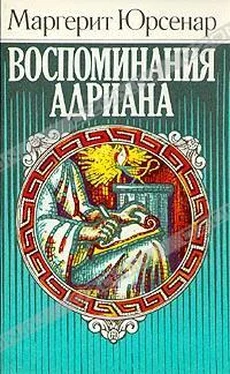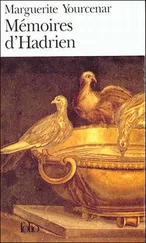Вопреки легендам, которые меня окружают, я никогда не любил молодость, и меньше всего — свою собственную. Если взглянуть на нее непредвзято, эта хваленая молодость чаще всего представляется мне плохо обработанным участком человеческой жизни, периодом смутным и бесформенным, зыбким и хрупким. Разумеется, можно привести немало приятных исключений из этого правила, и ты, Марк, лучший тому пример. Что до меня, в двадцать лет я был почти таким же, как сейчас, но только слабее духом. Не то чтобы все было во мне плохим, но все могло таким стать: хорошее и лучшее в те годы еще помогали худшему. Не могу без стыда вспоминать о своем полном незнании мира, при том, что я был твердо уверен, будто прекрасно знаю его; не могу без стыда вспоминать о своей нетерпеливости, суетном честолюбии и грубой жадности. Признаться тебе? Живя в Афинах яркой, насыщенной, интересной жизнью, в которой находилось также место и удовольствиям, я тосковал по Риму, и даже не столько по нему самому, сколько по его атмосфере, в которой непрерывно куются дела всего мира, тосковал по шуму колес и приводных ремней машины власти. Царствование Домициана подходило к концу; мой родич Траян, который покрыл себя славой на рейнских границах, становился популярным государственным деятелем; испанский клан укоренялся в Риме. По сравнению с этим миром решительных действий милая моему сердцу греческая провинция, казалось, дремала в пыли отживших идей; политическая пассивность эллинов представлялась мне малопочтенной формой протеста. Моя жажда власти, денег, в которых у нас зачастую выражается власть, и славы, если называть этим высоким именем наше неодолимое желание слышать, как о нас говорят, была неоспоримой реальностью. К ней примешивалось смутное ощущение, что Рим, во многих отношениях стоящий ниже Афин, берет реванш в другом, требуя от своих граждан, во всяком случае от тех из них, кто принадлежит к сословиям сенаторов или всадников, готовности к великим свершениям. Я дошел до того, что какой-нибудь заурядный разговор на тему о ввозе египетского зерна казался мне более поучительным для уяснения сущности государственного устройства, чем «Государство» Платона. Уже несколькими годами раньше я, юный римлянин, вкусивший военной дисциплины, самонадеянно считал, что лучше, чем мои учителя, понимаю солдат Леонида и атлетов Пиндара. Я покидал залитые ласковым солнцем Афины ради города, где люди, с головой укутавшись в тяжелые тоги, борются с порывами февральского ветра, где роскошь и расточительство лишены своей прелести, но где даже самое ничтожное из принятых решений влияет на судьбы целой части света и где юный провинциал, алчный, но при этом не слишком тупой, поначалу считая, что он повинуется лишь своим примитивным честолюбивым устремлениям, мало-помалу, по мере того, как они претворяются в жизнь, начинает их утрачивать, приобретает умение мериться силами с обстоятельствами и людьми, командовать и, что в конечном счете, быть может, чуть-чуть менее зыбко, чем все остальное, приносить пользу.
Отнюдь не все было так уж прекрасно в этом приходе добродетельного среднего класса, который выдвигался на первый план в предвидении грядущей перемены режима: политическая честность завоевывала позиции с помощью довольно сомнительных методов. Сенат, постепенно передавая все рычаги управления в руки своих ставленников, все больше сжимал Домициана в кольцо; новые люди, с которыми я был связан тесными семейными узами, быть может, немногим отличались от тех, кому они шли на смену; но они не были запачканы властью. Родня из провинции готова была занять любую, пусть самую низшую должность, но от нее требовали честной службы. Мне тоже досталось место: я был назначен судьей в трибунал по делам о наследствах. В этой скромной должности я и присутствовал при последних ударах смертельного поединка между Домицианом и Римом. Император утратил в Городе все позиции, он держался лишь с помощью казней, которые только ускоряли его конец; в армии, которая жаждала его смерти, готовился заговор. Я мало что понимал в этом поединке, более роковом, чем сражение гладиаторов; прилежный ученик философов, я испытывал к затравленному императору высокомерное презрение. Следуя благим советам Аттиана, я выполнял свои служебные обязанности, не слишком обременяя себя мыслями о политике [44] Описанный здесь процесс насыщения римской администрации провинциалами означал оттеснение от власти римской олигархии и превращение Рима из города-государства в столицу мировой империи (ср. «Рим находится уже не в Риме»). Историческое значение правления Адриана состояло в первую очередь в том, что он довел этот процесс до конца.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу