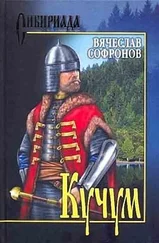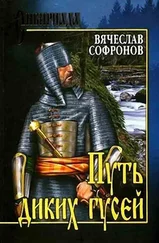Мухамед-Кул взял его в руки, ощущая мягкость хорошо выделанной, тонкой легко мнущейся кожи, местами затертой до блеска. Мимо него бесшумно пролетела ночная птица, едва не коснувшись лица длинным крылом, и резко взмыла вверх, испуганная неожиданной встречей. Юноша тонко свистнул и серая сова, а это была именно она, легкая, подвижная в полете и любопытная, верно, по молодости своей, тут же развернулась и скользнула вниз, приняв его свист за писк мыши-полевки. Мухамед-Кулу вспомнился подстреленный им несколько лет назад старый ворон, что сел на полумесяц построенной в Кашлыке мечети. Он тогда с торжествующим криком, гордый своим выстрелом, подбежал к нему полуживому, поводящему могучим клювом и бьющему по земле тяжелыми крыльями. Он схватился за стрелу, приподняв с земли тело птицы, но ворон грозно зашипел и защелкал клювом, уставившись круглыми темными глазами, и юноша услышал голос его: "Берегись, мы еще встретимся… Берегись…"
Конечно, он не мог слышать этих слов, но умирающий ворон был грозен, даже сраженный стрелой, не пытался, как-то делают тяжелые трусливые селезни, забраться в густую траву и спрятаться там. Нет! Тот ворон умирал как воин умирает перед сразившим его врагом — гордо и с достоинством, усмехаясь пришедшей неожиданно смерти и грозя противнику отмщением.
Кто-то из старых воинов, зло выругался, оттолкнул ханского племянника от бьющегося на земле ворона, и велел идти в свой шатер, а вечером возле его постели лежали две отрубленные вороньи лапы и чуть загнутый вниз птичий клюв. Он подобрал трофеи и повесил над изголовьем, как знак воинской удачи. С тех пор ворон несколько раз являлся к нему во сне и спрашивал грозно: "Зачем ты убил меня? Разве ты хозяин этой земли? Зачем ты пришел сюда?" — и грозно щелкал клювом, целясь ему в глаза.
Всякий раз, когда Мухамед-Кул видел пролетающих мимо птиц, вспоминал старого ворона, которому, как говорили старики, поклоняются многие роды сибирцев, убитого им. Но не было уже былой гордости и радости, убив птицу он не мог убить воспоминания о ней.
Брякнул засов, заскрипела открываемая калитка, и Мухамед-Кул увидел тонкий силуэт женщины, шагнувшей из ворот городка. Она некоторое время постояла, вглядываясь в сумерки близкой ночи, и скорее уловила обращенный на нее взгляд, чем увидела сидевшего на бревне юношу. Сделала шаг к нему.
— Зачем ты звал меня? — напевно проговорила она, и Мухамед-Кулу послышался голос матери и еще что-то неуловимо знакомое, родное в звуках ее речи. — Почему хан каждый раз посылает жалких гонцов и никогда не приедет сам? Или он все еще боится меня? Ха-ха-ха… Хорош воин! Так передай ему, что хоть мы и одной крови, но думаем по-разному. Он убил… — И неожиданно она заплакала, закрыв лицо темным покрывалом, накинутым на плечи.
Мухамед-Кул подбежал к ней торопливо заговорил:
— Ты ошиблась. Вовсе не хан прислал меня, я тайно от него вызвал тебя. Я желаю знать эту тайну, которую все скрывают…
— О какой тайне ты говоришь, юноша? — оттолкнула она от себя его руки. — Мне ли, слабой женщине, хранить тайны, которые могут стоить жизни тысяче муж чин? И кто ты такой, придя ко мне без разрешения хана?
— Я — твой племянник, сын погибшего Ахмет-Гирея. Вот кто перед тобой.
— Мальчик мой, — пошептала Зайла-Сузге, — какой ты большой… Воин. Это твои сотни сидят у костра? Ты их башлык?
— Да, хан меня назначил башлыком и отправил в поход. — С юношеской гордостью и заносчивостью ответил тот. — И я добуду воинскую славу и женщины будут петь о моих подвигах. И ты услышишь о них.
— В точности мой бедный брат, Ахмет-Гирей, такой же гордый и неукротимый. Но почему именно тебя отправил хан в поход? Или у него нет более опытного башлыка для битв и сражений? Ведь ты его единственный племянник и у тебя всего одна жизнь.
— У всех людей на этой земле одна жизнь, — Мухамед-Кул, словно повторил чьи-то слова, — но я мужчина, а значит, воин. Или не так?
— Воин, мой мальчик, воин, — успокаивающе проговорила она, и провела тонкими пальцами по лицу, нащупав едва пробивающиеся усы на нежной юношеской коже, коснулась его губ и, словно испугавшись этого прикосновения, отдернула руку и тихо предложила, — лучше сядем и поговорим, если у тебя найдется время для одинокой, забытой всеми женщины. Иногда меня выпускают за ограду поглядеть на мир. Очень ненадолго выпускают. Сядем.
Они подошли к темнеющему у ограды бревну и сели неподалеку друг от друга, случайно встретившиеся родные по крови люди. Мухамед-Кул нащупал кожаный мешочек, оставленный ему сотником, и протянул робко Зайле-Сузге.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу