И надо же было случиться такому, что именно в эти минуты дрогнула, стала расползаться угольная гряда облаков у горизонта, а на северной стороне неба затеплился бледно-призрачный белый свет, именуемый поморами отбелью. Затем появились россыпи лучистых розовых оттенков, называемые зорниками; багровея на ходу, вслед кинулись, задышали, отталкивая друг друга, млечные полосы — столбы, как бы стараясь выказать неземную силу необозримого небесного многоцветья…
Молчавшая все это время Аглая неожиданно восторженно воскликнула, не отводя глаз от неба:
— Господи, каки пазори чудны, к добру это нам, братья, к добру!..
— Дай бог, — сдержанно поддержал ее Акинфий и, обратившись с доброй улыбкой теперь уже к Митродоре, спросил: — Ну, отчаянна душа, доводилось тебе бывать в сих водах ранее?
— Да на три-четыре поприща вперед бывало, а далее не случалось. Места здесь что на море, что на берегу чужие, колдовские. Слышала стороной, что людишек — и православных, и дикарских — полегло здесь немало, а отчего сие, почему — одному богу известно, берег-то здешний и ветра его недаром забытыми зовутся. Забыли их, значится, на свете Божьем, вот тут и творится разное…
Исподволь, вначале даже запинаясь и не сразу находя нужные слова, начала Митродора свою речь и вдруг через время малое, полуоткинувшись на борт когга, вполголоса запела, смотря отрешенно вдаль и будто забыв обо всем на свете.
Это была старинная поморская песня, издавна нареченная «отвальной», и паломники, вслушиваясь в слова ее, вспоминали самое-самое заветное, что было в их поморской походной жизни.
Митродоре пришло на ум, как она в первый раз ступила на Берег забытых ветров. Тогда коч их волна выбросила далеко на каменистую россыпь. Добро, была бы это у них одна незадача, а тут вслед волны выбросили еще две большие эвенские ладьи, из которых как горох посыпались воины в черных меховых одеждах.
Паломники на кочах, хотя и были в монашеских одеяниях, с ловкостью, свойственной бывалым воинам, размахивая короткими мечами, ринулись навстречу преследователям. Сшиблись, закружились, то наступая, то отступая по отмели. Полетели стрелы, ожесточенные выкрики слились в пронзительный, разрывающий душу вой…
Мать, схватив Митродору на руки, пригибаясь, бросилась к кустам. Отец (а видела его тогда Митродора последний раз в жизни), разгоряченный боем, с двумя короткими мечами в руках, только и успел крикнуть жене: «Девку уноси!» — как на него набросились сразу трое воинов, и все они закружились в ожесточенной схватке, будто подхваченные внезапно налетевшим вихрем.
Далее как ни называй жизнь — хорошей аль плохой, а все она выходила у Митродоры невместной: детство и юность в потаенном скиту, гибель матери при переправе через таежную реку и, наконец, чужой, будто из забытой сказки, мир. Чужие, дикие люди, которые теперь почему-то постоянно окружали ее, их непонятный говор, а когда она наконец научилась его понимать — удивление, испуг, а временами и ужас, от которого по ночам боишься лишний раз открыть глаза, а то и готова насмелиться головой в таежный омут…
Поначалу не понимала, дивилась Митродора: чего это дикарские люди здешние так возятся с ней? И в чуме из белоснежных оленьих шкур ее держат, и носит она одежды из редких по красоте собольих и горностаевых спинок, расшитых россыпями невиданного радужного бисера, и каждое обращение к ней — с поклоном низким и с подарками…
И вот пришел день, когда к Митродоре явился сам Тывгунай с тремя младшими шаманами и они устроили поклонение Энин Буга — матери тысячи народов.
Больше двух десятков лет прошло с той поры, а Митродора видит, помнит все до малой малости. Чудеса, наваждение дьявольское, прости господи, творилось тогда в чуме ее. По слову, повинуясь каждому жесту руки Тывгуная, возникали перед ней в чуме и медленно плыли по воздуху диковинные продолговатые огоньки, сплетавшиеся в длинные многоцветные ленты и исчезавшие в колеблющихся облачках тумана, чтобы тут же уступить место картинам вздыбленного штормом моря, по пенным верхушкам волн которого скользили призрачные женские лица со злобно-насмешливыми глазами…
В многоцветье этих появляющихся и тут же исчезающих образов, линий, радужных всполохов наконец возникло и утвердилось редкой красоты женское лицо с бронзовым отливом щек, с вознесенными в капризном изгибе бровями, чуть подергивавшимися от мерцания странного пугающего взгляда.
— Вот, вот она! — что было силы выкрикнул Тывгунай, указывая на лицо этой женщины, и тут же, словно подброшенный скрытой в нем тайной силой, неожиданно высоко прыгнул вверх, успев при этом перевернуться через голову, и, упав на колени перед Митродорой, схватил ее за руку, забормотал что-то судорожно, будто вымаливая прощение за неведомые ей грехи.
Читать дальше
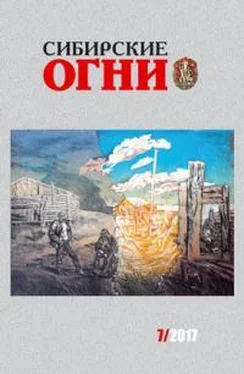
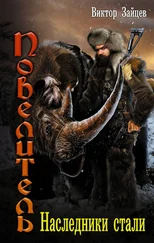




![Виктор Ирецкий - Наследники [Роман]](/books/426720/viktor-ireckij-nasledniki-roman-thumb.webp)





