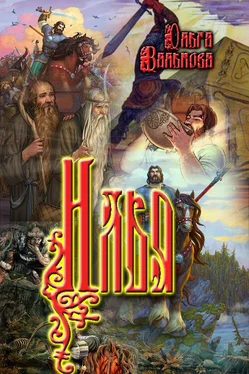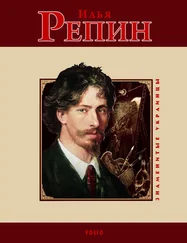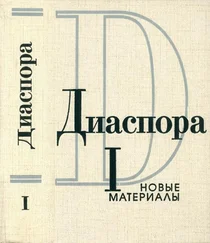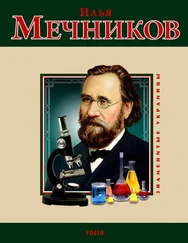****
Иной раз Алешка подумывал, что в нем и впрямь сидит какой-то бес. С детства.
Он слушал проповеди и наставления отца, которого любил и которому верил, а потом, болтаясь с приятелями по рынку, не мог удержаться, чтоб чего-нибудь не свистнуть у зазевавшегося продавца. Не потому, что нужно было, а просто так, из озорства.
Был первым заводилой обтрясти чужие яблони или надрать морковки на чьем-нибудь огороде. Удирал через забор всегда последним, пропустив приятелей вперед, и частенько являлся домой с порванной в кровь задницей: псы в Рязани всегда были большущие и злые, и обмануть их, заманив криками или кусочком мяса в дальнюю часть двора удавалось не всегда.
Попадья плакала, омывая раны своего ненаглядного сыночка. Алешка жалел мать и клялся себе больше ее не огорчать.
Отец драл редко, только когда алешкины бесчинства совсем уж выводили его из себя. Чаще сажал перед собой и терпеливо объяснял, что есть грех и почему то, что Алешка натворил, было грехом. Не столько адом пугал, сколько рассказывал, как грустно Господу, как обидно, что Алешка, за которого Он пострадал, как и за всех людей, так себя вел. Так обидно и грустно, что Он ведь может от Алеши и отвернуться.
Алеша жалел Бога, как жалел мать, мучился, что огорчает отца, и стыдился себя.
Но приходил новый день, а с ним и новые проделки, от которых невозможно было удержаться.
То, что по отцовой стезе мальчишке не идти, было ясно — ни призвания, ни поведения должного. Когда пришло время сына делу учить, отец Левонтий договорился с дружинниками местного князя, чтобы обучали недоросля воинским наукам. Думал, отвлечет от проказ. Алеша решение отца принял с восторгом, учился от души, так, что к концу обучения всех учителей своих превзошел, но и озорства не оставил.
Потом пришло время девушек, которые на поповского сына заглядывались все, как одна. Родителям добавилось тревоги: Рязань была городом семейственным, обстоятельным, и случись что — подранной задницей не обошлось бы.
И когда парень запросился в Киев, родители благословили любимое чадо едва ли не с облегчением.
****
В Киеве, на богатырской службе, разлад в душе молодого дружинника только усилился. Уже не отец, старый кроткий поп Левонтий, а собственная совесть твердила ему о грехах. Но только она одна. За проделки его журили, в том числе и сам князь; случалось — били, но ими и восхищались. Он чувствовал это. К исповеди Алеша, как и вся дружина, ходил в Софию, где батюшка грек отец Евстафий, наслушавшийся за долгую службу такого, чего молодой воин и представить себе не мог, с улыбкой отпускал ему грехи, даже епитимьи не накладывая.
То, глубоко лежащее, так глубоко, что сам Алеша даже понять этого не мог, впитанное в родительском доме с младенчества, с молитвами отца, когда он еще не мог ни говорить, ни понимать сказанное, с ликами в соборе, бывшем ему как дом, настойчиво вопрошало: кто ты, Алексий, раб Божий, слышишь ли меня? И не было у него ответа.
Кроме как признать пустяком этот глубинный голос и отмахнуться от него.
****
А потом появился Илья. Такой человек, каким хотел бы быть Алеша, когда глубинный голос звучал в нем.
Застенчивый и тихий обычно, Илья умел быть резким и прямым, и именно таким он был с Алешей. Его не восхищало то, что так нравилось другим — дерзость и отчаянность, он как будто видел в поступках не то, что видели другие, а только единственную их суть — то, что отдается от человека другим людям.
Можно было, пожалуй, сказать, что Алеша не нравился Илье, но несмотря на это, а может быть, именно из-за этого Алеша к Илье тянулся. И еще Алеша знал, знал точно, что не был он неприятен Илье, со всем озорством своим — не был, а пожалуй даже, что и наоборот.
Однажды они вдвоем ехали осенним серым полем. Тишина под хмурым небом была такая, какая бывает только поздней осенью, когда нет уже звуков летних, и зимние еще не пришли, и все застыло.
Алеша повертелся в седле, угнетенный этой хмурой тишиной, и вдруг заорал на все поле деревенскую частушку, смешную и бесстыдную. Илья расхохотался и подхватил. Алеша поддал жару. Илья ответил такой карачаровской, что его спутник задохнулся от хохота. Но справился с собой, и ответ нашелся.
Они ехали, пели и смеялись. Алеша ловил взгляд Ильи — искрящийся и веселый — и чувствовал рядом друга-озорника, друга, какой бывает только в детстве, когда души легко соприкасаются, и та, что рядом, — верна и близка. Ведь именно за этим мальчишки лазают в чужие сады, где их ждут свирепые рязанские псы. За этим, не за яблоками, которых и в отцовом саду — ешь не хочу.
Читать дальше