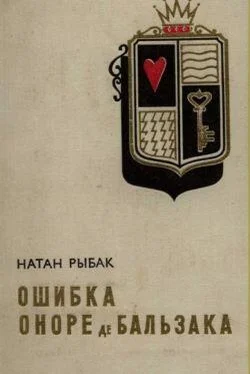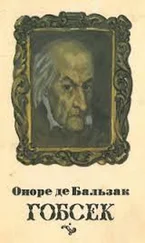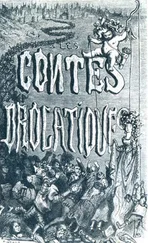Скрипка стонала, плакала и горевала в старческих руках, и Бальзак прозревал. Он сам не заметил, как произошло непостижимое: он не смог сдержать душивших его рыданий, кусал губы, слезы катились из широко раскрытых глаз, и не от стыда за них он закрыл лицо руками. Просто люди, сидевшие в гостиной, были ему чужды, безмерно чужды.
Дед Мусий опустил скрипку, и гости зааплодировали, удивленно поглядывая на Бальзака. Он вскочил, подбежал к деду и стал целовать его в лоб и щеки, сжимая его в объятиях. Потом, не говоря ни слова, выбежал из зала. Но и у себя в кабинете он еще долго не мог успокоиться, хотя здравый смысл подсказывал ему всю непродуманность его поведения.
А в гостиной замешательство сменилось оживленным разговором о необычайной чувствительности Бальзака. Дед Мусий поклонился и вышел. Жегмонт разрешил ему уйти домой. Сжимая под мышкой скрипку и держа в руках бандуру, дед семенил по двору. Из темноты вынырнула перед ним фигура управителя Кароля. От неожиданности дед Мусий вскрикнул и отступил в тень. Управитель прошел мимо, не заметив деда. Он направлялся в людскую. Когда он появился на пороге, из людской всех словно ветром вымело, осталась одна бабка Мотовилиха.
— Живешь еще, ведьма? — злобно спросил Ганский.
— Слава богу, живу, пан управитель.
Бабка низко склонила голову. Ждала, покорно опустив сухие плечи.
— Позови Марину, живо.
— Сейчас, пан управитель, сейчас.
Старуха исчезла. Управитель нетерпеливо постукивал нагайкой по лавке. Запах кушаний щекотал ноздри. Кароль толкнул ногой дверь и вышел на крыльцо. Темень осенней ночи жалась к домам. Таинственно застыл вокруг парк. Шорох босых ног пробудил управляющего. Перед ним стояла Марина. Он стиснул ей локоть своими сильными пальцами и бросил в лицо:
— Придешь ночью по доброй воле — не забрею в солдаты твоего Василя, не придешь — пожалеешь.
Оттолкнул и сошел с крыльца. Исчез в темноте, словно дурной сон. А Марина так и осталась стоять одна, без мыслей и чувств, на ветру, среди ночи.
Бальзак к гостям не вернулся. Жегмонту велел передать извинения, сказать, что заболел. Эвелина рассердилась было, но все оказалось к лучшему. Неожиданную взволнованность можно было истолковать по-своему. Да, княгиня Зося могла позавидовать ей. Князь Конецпольский долго еще говорил:
— Тяжелые времена, пани Эвелина. В Европе непременно- будет буря. Только писатели и артисты живут бездумно, без волнений. Игра вашего крепостного растрогала Бальзака, он может написать об этом целую поэму, но я-то понял ее по-своему.
Старый сановник, известный в придворных кругах как умный дипломат и скряга, погрозил подагрическим пальцем, погладил острую, аккуратно подстриженную бородку и продолжал:
— Я понял эту музыку как протест крепостного. Да, да, не возражайте.
Княгиня Зося недовольно надула губки.
— Хватит! Мне надоела политика!
— Поэты и женщины одинаковы, — безнадежно махнул рукой князь.
Эвелина молчала. В словах гостя она уловила что-то похожее на предостережение. Гости стали прощаться.
Ночью разгулялась последняя осенняя буря. Стонал верховненский лес. Дождь беспощадно хлестал землю, бескрайние господские поля и полоски крепостных. Сосны скрипели, точно снасти корабля в шторм. Марина не спала. Слушала дикий стон бури и думала свою горькую, безутешную думу. «Не пойду! Руки наложу на себя, а не пойду», — твердила она себе. Не было слез, чтобы выплакать горе. Не было уже сил и говорить о нем. Ненависть разгоралась в сердце горячим огнем. Ненависть становилась залогом ее лучшей доли.
И до рассвета сидел за письменным столом Бальзак, ни на секунду не выпуская из рук перо, словно боясь потерять найденный источник вдохновения, и неугасимая жажда труда гнала его перо по белым большим листам бумаги, и это было настоящее наслаждение великого и святого творчества.
В эти минуты он владел всем миром, всем человечеством и, владея им, освобождал его.
Сомнения и тревоги остались далеко позади, затерялись в дорожной пыли. Его снова призывало, влекло неведомое, все жизненные невзгоды опротивели ему. Бальзак ехал в Киев.
Вот скоро предстанет перед ним славный город на высоких кручах над Днепром; он увидит древнюю Софию, серые стены Печерского монастыря, легендарную реку Днепр.
Столица Приднепровья лежала на его пути, как желанный и долгожданный клад, он стремился завладеть этим кладом, насладиться его красотой и обогатиться мыслями о нем.
Читать дальше