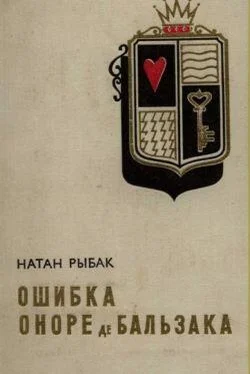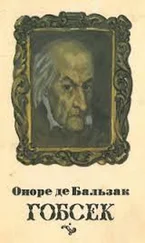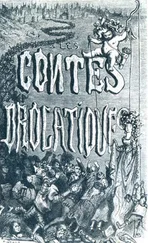Княгиня Зося, незаметно склонившись к Эвелине, шепотом спросила:
— Говорят, ты выходишь замуж за Бальзака?
Эвелина удивленно посмотрела на нее.
— Что ты? Мало ли что выдумывают! Нет.
Княгиня готова была поверить, но тогда… что тогда, она не успела подумать. Бальзак и ее муж остановились перед дамами. Они присели, и Бальзаку пришлось развлекать княжну и княгиню, пока Конецпольский не без удовольствия беседовал с Эвелиной. Разговор полился весело и непринужденно, и скоро Бальзак завладел вниманием небольшого общества. Красочно и страстно рассказывал он о парижских салонах, об их блеске и пышности, но когда, незаметно для себя, заговорил о своей работе и увлекся еще больше, первоначального внимания уже не было. Гости слушали только из вежливости. Эвелина нервно кусала губы. Бальзак поймал ее взгляд и понял. Усмехнувшись, он прервал рассказ. Эвелина дернула сонетку.
На пороге появился Жегмонт.
— Господа! — приветливая улыбка, мелькнувшая на губах Эвелины, сразу вернула всем веселое настроение. — Я хочу вам сейчас показать необычайное дарование. Кстати, и вы, мсье Оноре, не слушали его. Это нечто феноменальное! — И уже без улыбки бросила дворецкому: — Приведите его!
— Слушаю!
Жегмонт вскоре вернулся с дедом Мусием. Старик низко поклонился и зажмурил глаза от непривычно яркого освещения. В правой руке он держал бандуру, а в левой самодельную скрипку. Гости снисходительно улыбались. Бальзак резким движением отбросил со лба прядь волос. Он узнал старого чумака и приветливо кивнул ему.
— Дедушка, — ласково сказала Эвелина, — сыграй нам сначала на скрипке, а потом на этом. — Она показала пальцем на бандуру.
— Слушаю, ясновельможная пани.
Дед Мусий поклонился еще раз. Жегмонт придвинул ему стул и на цыпочках вышел. Дед положил бандуру на стол. Минуту стоял задумчиво — широкая белая рубаха и штаны, седая борода, запавшие глаза под высоким лбом — все это казалось видением, сказкой. Бальзака охватывало волнение.
Под опущенными веками деда Мусия промелькнула бескрайняя степь, бездорожье степное, серебряная и вольная журавлиная стая, густые вербы над Днепром-Славутою, и сказочная Хортица, и грозные пороги, и мать Сечь встала перед ним скалою, и кто-то вдруг опоясал деда нагайкой, обжег, повалил и топтал ногами, и было пусто и одиноко, только дождь плакал и ветер тужил. И перед взором деда Мусия вдруг возникла разъяренная физиономия Кароля, и вот он уже снова лежал на земле избитый и поруганный, казалось, стены роскошного дворца расступились и, кроме Ганского, не было перед дедом никого, а в теле и в сердце осталась только боль, которую не унять до самой смерти. И дед Мусий не заметил, что мысли его, горькие, безутешные, уже потекли по струнам, и он, прижав скрипку подбородком к плечу, играл про неволю.
И сразу вдруг все исчезло, словно земля поглотила дворец, людей. Дед играл, и тосковали послушные струны скрипки, и эта несказанная тоска входила, как невыносимая боль, в сердце Бальзака, и он, забыв все условности, гостей и весь мир, прижимал руки к груди, сдерживая бешеные перебои больного, растревоженного сердца; его глаза пламенели, лоб побледнел, полные губы пересохли от неугасимой жажды души. Гости поникли в задумчивости; только дед в постолах оставался на земле; у деда болел крестец, щемило сердце, шумело в голове, деда Мусия били нагайкой и топтали ногами, а степи украинские тянулись бесконечно, а ночи были глухи ко всякому горю, как господа, и далеки от горя, как господа, мерцали звезды и, холодный к горю, светил месяц, и только дождь осенний плакал, и ветер тужил.
А отчаяние было неудержимо, точно река полноводная, глубоко, точно русло старого Днепра.
А для Бальзака скрипка, покоренная рукой старика крепостного, оживила давнее и незабываемое: далекий Париж, тесную, похожую на гроб мансарду, в которой, как запертый в клетке лев, он десять лет метался и кипел — словно в сердце у него извергался кратер нового Везувия… Странички рукописей на столе, на полу, на подоконнике, перед глазами — десятки незабываемых лиц обитателей парижских предместий, этих обездоленных искателей счастья, далекая Бретань и рядом — изысканные салоны Парижа… Воображение гнало его дальше, вперед… И он уже видел дорогу, незнакомые селения, молчаливую покорность верховненских крепостных, в которой созревала давно угадываемая им буря… А здесь, рядом, сидели те, кому горе и нужда безразличны, кто выменивает людей на собак… Надутый князь со своими родичами… и возле них Эвелина, Северная Звезда, его эликсир жизни.
Читать дальше