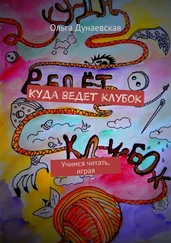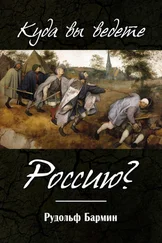Он поднялся, затянул штаны веревкой.
— Сын мой на флоте служит. Давно не видал его.
— За что пострадал?
Старик махнул рукой. И опять произнес ошалелые, невнятные слова:
— Не по курице схода, не по кошке спесь.
Прончищев улыбнулся:
— Мало ты на курицу похож! А еще менее на кошку. Зарос, как медведь.
И, боясь, как бы опять не оборвалась ниточка, связывающая старика с жизнью, спросил:
— Как сына фамилия?
Нет, ниточка не оборвалась.
— Сутормин. Федор.
Да, поистине неземные чудеса бывают на белом свете. В это было невозможно поверить! Федор Сутормин шел в прончищевском отряде. Мужичонка на вид невзрачный, а матрос вполне подходящий. На флоте давно служит. Тверской. На каждой почтовой станции просил Василия сочинить письмо домой. Диктовал всегда одинаково: «Любезной жене Евфросинье Ивановне, любезным дочерям Акулине Федоровне, Ольге Федоровне, Елизавете Федоровне…» Прончищев катал цидулку, усмехался: «Одних девок нарожал, совсем для флота не постарался!»
Сутормин баловался вином. Как выпьет самую чуточку, так одна и та же припевка:
— Эх, раз, по два раз! Расподмахивать горазд. Кабы чарочка вина, два стаканчика пивца, на закуску пирожка…
Вот такой это был мужик.
Прончищев спросил:
— Тебя как звать?
— Игнатий.
— Ну, поехали к Федору Игнатьеву. У нас он в отряде.
— Заманываете.
— Дед, наш устав — правда.
— Заманиваете. Откуда б тут Федору быть? Он на море служит.
Рашид посадил деда позади себя, привязал кушаком — как бы по слабости не свалился с лошади.
Ощутив живое тепло лошади, спины Рашида, старик на глазах оживал; слова, замороженные холодом и тленом землянки, оттаивали.
— Господин флотский, а я ведь помирать собрался. В небо возносился…
— Мы тебя на землю поставим, — обещал Прончищев. — Ты еще не только сына — внучек увидишь. Да я их всех знаю наперечет — Акулину, Ольгу, Елизавету.
Это старика привело в полное замешательство.
— Видал их?
— Видать не видал, — захохотал Василий, — а письма писал!
Федор Сутормин обмер, глазам не поверил, когда увидел батюшку. Перекрестился, забулькал что-то невнятное, повалился отцу в ноги.
Матросы дивились:
— Как бывает, а?
— Кому скажи — не поверит. Пять лет не видались, а встретились. И где?!
— Дед, а ты чаял сына увидеть?
— Да где, ребята! — Старик мял длинную, до колен, бороду.
— А еще знахарь.
Старик нахмурился. Осерчал, видно.
Ему показали больного мальчика. Старик дотронулся до его лба, поднял веко левого глаза. Долго держал руку на его груди.
Уже через час в железной баночке на огне Игнатий готовил из таежных травок снадобье.
Шептал белыми, высохшими губами:
— Уповающего же на господа милость приидет. Свети душу его, лечи душу его и тело.
Матросы окружили старика. Истинно колдун! Слова-то какие знает.
Заскорузлыми пальцами втирал жгучий состав в кожу Лоренца. Движения рук знахаря были изящны и неторопливы; он точно узоры наносил на грудь, спину, бока мальчика.
Уже к вечеру Лоренц очнулся, попросил пить.
Через два дня встал с постели. Отец был вне себя от счастья.
— Василий Васильевич, как вас благодарить?
— Здоровье вашего сына, — ответил Прончищев, — лучшая благодарность всем нам.
Самое поразительное: старик отказался возвращаться в скит. Хотел быть рядом с сыном.
Согласно указу Адмиралтейств-коллегии, в экспедицию при нужде разрешалось зачислять ссыльных. Прончищев позволил остаться в обозе деду, рассудив, что Карлу Беекману «живой лечебник» будет хорошим подспорьем.
Пусть даже тебе дана небольшая власть, а ты уже в состоянии сделать счастливым человека. Куда девалась угрюмость деда? Он попарился в баньке, нашлось множество охотников растереть его можжевеловой мочалкой. Старик голый — кожа да кости — выскочил из жаркого закутка на воздух, бултыхнулся в холодное озерцо, истошно завопил от наслаждения и нырнул обратно в клубящееся облако пара. Из баньки вышел обновленный, сразу поважневший, попросил шило и дратву. Целыми днями чинил поизносившемуся отряду сапоги, бараньи тулупы.
— Ты нашему командиру, старый, вечно теперь богу молись, — говорили служивые.
Возле Игнатия всегда толпились любопытные. Язык у него острый, зло рассказывал, как пострадал за правду, почем зря честил сибирских начальников.
— Взять того же тутошнего воеводу — зверь. Обижается на него народ. От инородцев ясак берет втрое. Две шкуры себе, одну в казну.
Читать дальше