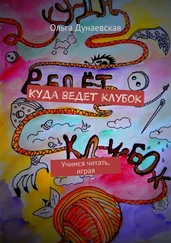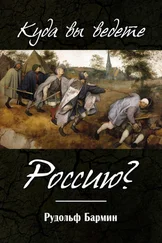Лежат. Сержант сучит ус, острый и узкий, как штык.
— Встать! В колонну по четверу разберись! Фузей на плечо!
Мушкет по-нынешнему. А для него, бывалого солдата, фузей.
— Ро-о-от-а-а, смирна-а-а! Ша-ага-ам арш!
В этом свистящем, лихом «ш» вся сила неустрашимая.
Рота вколачивает каблуками дубовые плитки мостовой.
— Ать, два, ать, два! — преподает сержант строевую арифметику.
Зимний дворец.
Особняк президента Адмиралтейств-коллегии Апраксина.
Кикинские палаты.
Четверо барабанщиков легкими палочками выбивают музыку строя, дают шагу пружинистость, строгость парада. Вот палочки застыли, и сейчас сорок глоток троекратно проорут:
— Ура! Ура! Ура!
Евский вскидывает подбородок — впереди казармы 1-го батальона лейб-гвардии Семеновского полка, где он сам служил. Пусть старые товарищи заметят, как Евский ведет молодых дворян.
Стучат кожаные башмаки, рассыпается по царской набережной удаль барабанная.
Хорошо идут, черти-дьяволы! А всего-то три месяца, как познали солдатские экзерциции.
Скоро присяга: «Со всей ревностью, по крайней силе своей, не щадя живота и имения, исполнять все уставы и указы, верно служить Его Величеству Петру I и наследникам его!»
Таковы были первые дни пребывания в Морской академии.
Нелегко было Прончищеву и Челюскину после вольницы Навигационной школы привыкать к жесткому распорядку флотского экипажа. Сержант Евский малейшей провинности не упустит. Ученье его коротко: хлыстом по ногам. Петр I, побывав в академии и найдя, что ученики ее весьма распущенны, приказал: «Для унятия крика и бесчинств выбрать из гвардии добрых солдат и быть им по человеку при каждом классе и во время смотра и учения иметь хлыст в руке; буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить, какой бы ни был фамилии».
Кнутом Евский не брезгует — повод всегда найдется: отчего кричишь громче всех, зачем «вшивым порошком» товарища обсыпал, почему балбесничаешь, а урока не знаешь?
— Я был Евский. — Это любимая поговорка сержанта. — А как послужил в Санкт-Петербурге, так стал Невским. И вы, отколь бы ни приехали, псковские ли, калуцкие, рязанские там — все будете Невскими.
После Москвы, с ее холмами, плавными извивами реки, древними соборами, тесными, лепящимися друг к другу переулками, торговыми рядами, зелеными посадами, Санкт-Петербург показался Василию городом чужим, зябким, иноземным. Даже зима другая. Московская метель обсыпала лицо сухой снежной пылью. Прося прощения, ластилась у ног, извиваясь кошачьими хвостами. А здесь метель, спрямленная лучами Невского проспекта и Миллионной улицы, неслась без удержу, никуда не сворачивая, оставляя на лице влажный след. От плотного снежка пахло горько и солено — морем.
Москва была роднее еще и оттого, что оттуда до Богимова рукой подать. Чувство близости родных мест в первопрестольной скрадывало тоску. Из столицы же деревня казалась такой далекой, точно в другом государстве находилась.

Первое время Василий во всякую свободную от занятий минуту убегал в дальний конец двора, за амбары, и сидел одинокий, потерянный, стыдящийся своего состояния. Тянуло домой. И как вспоминал сизарей, Мышигу, добрую Савишну, Рашидку — плакать хотелось. Однажды, после того как Евский отхлестал его по ногам за какую-то малую провинность, дал волю слезам.
Вот здесь, в укромном уголке, на Василия наткнулся Харитон Лаптев.
— Ты чего тут делаешь?
Прончищев небрежно сплюнул сквозь два щербатых зуба.
— Сижу. Нельзя, что ли?
— Сиди сколько угодно. Чего это к тебе сержант прицепился?
— Плевать.
— И точно, — сказал Харитон.
Ощутив в Лаптеве некое к себе сочувствие и желая перевести разговор на другую тему, Прончищев вдруг сказал:
— Хочешь, загадку загадаю? Летели два гуся, садились на дубы. По одному сядут — гусь остался. По два сядут — дуб остался. Сколько гусей, сколько дубов?
Харитон улыбнулся:
— Чего это ты с загадкой полез?
— А ты отгадай!
— Не знаю.
Теперь Прончищев почувствовал, что как бы одержал верх над Харитоном, увидевшим его в непозволительную минуту слабости.
— Ну что?
Харитон пожал плечами:
— Хитры вы, калуцкие ребята.
— Да похитрее великолуцких! — Так Василий окончательно, как ему казалось, утвердил свое право сидеть где заблагорассудится, вне зависимости, побили его или нет, тоскует по дому или принимает жизнь, какая она есть.
Читать дальше