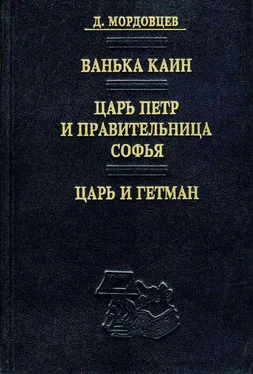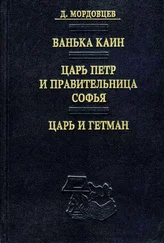Узенькие серые глаза его щурились, как у близорукого, и он во все пристально вглядывался. Одет он был в темно-малиновый кафтан с черными шнурами и с высоким, унизанным жемчугами воротом «козырем». Высокая бобровая шапка и массивный посох в руке с серебряным набалдашником придавали ему наружность протопопа. Другой, помоложе, который называл его боярином, был черен и горбонос. Черная курчавая борода и такая же голова выдавали его южное происхождение. Кафтан на нем был красный, длинный, какие носили тогда московские стрельцы. С ними было несколько казаков и рядовых стрельцов, а также ханский чауш и несколько вооруженных татар.
— Здравствуй-ко-ся, молодайка! Христос в помочь тебе, — ласково обратился к молодой невольнице тот, которого называли боярином, — ты, чаю, полонянка, не вем твоего имени, отчества.
Невольница и ее соседки с удивлением и радостью посмотрели на говорившего и на его спутников, но ничего не отвечали. Ибрагим также молчал, приложив руку к сердцу и почтительно поглядывая на гостей и на невозмутимого чауша.
— Не пужайся, милая, мы тебе никого дурна не учиним, — успокаивал черноволосый, — ты давно в полону?
— Давно, дяденька, — вскинула она на него своими ясными, робкими глазами.
— А откедова родом? Из какого места полонена?
— С Украины, а место не запомню: меня увели махонькою.
Черноволосый заговорил с Ибрагимом по-татарски. Они долго говорили, поглядывая на полонянку, которая вся раскраснелась от стыда, по-видимому, понимая все, что объяснял про нее старый работорговец. Стыд, составляющий, по толкованию философов — физиологов, лучшее украшение женщины, придал ее миловидному личику еще более симпатичности. И боярин, и стрельцы, и стражи не спускали с нее глаз. Драпированная белой чадрой голова полонянки была убрана в мелкие косички. Белые, нежные пальцы рук оканчивались тонкими крашеными ноготками.
— Видишь ли, боярин, — обратился черноволосый к своему пожилому спутнику, — эта молодайка полонена, слышь, давно, еще махонькою девочкой, и купил ее на рынке Ибрагим вот этот; у Ибрагима купил оную девочку мурза Карадаг для себя, и выросла она у него в гареме под началом старшей жены мурзиной, полонянки ж, и в те поры, как она выросла, старшая мурзиха ее не взлюбила, ревнует-де к мужу. А онамедни, когда Карадаг-мурза отбыл в Царьград по указу салтанову неведомо для какого дела, оная мурзиха и загадала сбыть с рук свою супротивицу, да тайно от мужа и продала ее оному Ибрагиму.
Боярин задумался. Судьба девушки, видимо, заинтересовала его.
— А как тебя зовут, милая? — ласково обратился он к ней.
— Мелася, — был робкий ответ.
— Мелася? — удивился боярин. — Такого имени я не слыхивал. Оно, может, татарское, а?
— Ни, дяденька: господин мурза зовет меня Фатьмой, а дома меня звали Меласею.
— Мелася, чудное имя, в святцах такового нетути. Да ты крещеная?
— Крещена, дядюшка. — И девушка перекрестилась, робко взглянув на Ибрагима.
— Да точно крестится, хоша не истовым крестом.
— Да она, боярин, из черкасского роду, черкашенка, — вмешался черноволосый, — а черкасские люди испокон не по-истовому творят крестное знамение.
— И то правда. А ты, милая, не басурманена?
— Нету, дяденька, не басурманена.
— И каном не мазана?
— Не мазана.
— И палец, поди, по-басурмански не подымала?
— Не подымала, дяденька.
— Это хорошо. А в посты, поди, мясо ела?
Девушка молчала. На глазах у нее показались слезы.
— Едала, чу?
— Едала, — сквозь слезы проговорила вопрошаемая.
— Гм!.. Это нехорошо.
Девушка совсем расплакалась, закрыв лицо обеими руками, которые видимо дрожали.
— Ничего, ничего, не плачь; ты ела с неволи, — утешал ее боярин. — Ну так как же тебя зовут? Запамятовал я, имя такое мудреное, а? Как?
— Мелася, — отвечала девушка всхлипывая.
— Мелася, ишь ты! Поп что ль такое имя дал?
— Не знаю.
— А отца твоего как звали?
— Не помню.
— Ишь ты, дело какое! А мать помнишь?
— Помню.
— А как звали?
— Не знаю.
— И прозвища не знаешь?
— Не знаю.
— А из какого города али бо деревни тебя угнали? Сказывай, милая, не бойся: я тебя выкуплю.
— Нас взяли в лесу, мы по калину ходили: это помню. И сестру мою взяли, и брата, много тогда угнали нас в полон, это все помню. Верблюдов много было, и нас, малых детей, на верблюдов посадили, а больших гнали на арканах.
— А давно это было, не помнишь? — спросил боярин, соображая что-то.
— Сказывали, лет десять будет: еще сказывали тогда про гетмана Дорошенка, да про Юрася Хмельниченка.
Читать дальше