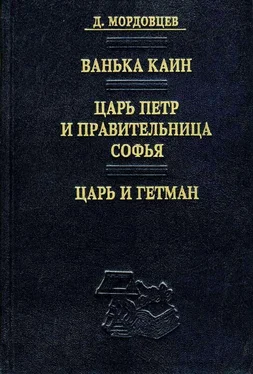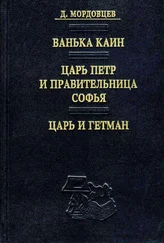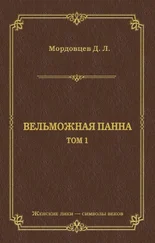— Имеяй уши слышати — да слышит, имеяй разум ведети — да ведает, имеяй очи сердечныя — да видит… А у тебя, царь, сердце слепотствует…
— Говори же — в чем?..
— Да ты не послушаешь гласа моего… Не пастырь я твой…
Петр остановился перед ним, вытянувшись во весь свой гигантский рост. Лицо его дергалось, но в огненных глазах светилась небывалая теплота.
— Послушай, владыко! — резко сказал он, и голос его дрогнул. — Чего тебе надо от меня? Послушания, любви? Да я ли не люблю тебя больше всего на свете, после России? Я ли не сын тебе? Я отца родного не любил так, как тебя люблю. Я не знаю, не ведаю, что это за сила в тебе — дух ли то Божий чуется мне в твоей кротости, ум ли то божественный горит в очах твоих смиренных, но я всегда слушаю тебя трепетно. Ты один не усыпляешь ум мой лестью и ты один, один во всей державе моей понял меня, подкрепил, благословил… Так ты ли не пастырь мне!
Он остановился, увидел, что старик плачет… Мелкие, мелкие, как роса утренняя, — крупные уж давно выплаканы! — слезы, сбегая с бледного, худого лица, разбивались о четки.
— Прости меня, царь, — тихо сказал Митрофаний, — я говорю с тобою в последний раз… Земля зовет сию земную оболочку мою (и он указал на свое изможденное тело), я отхожу от мира сего — час мой приспе… Выслушай же меня, великий государь. Богом живым заклинаю, выслушай.
— Я слушаю, — покорно сказал Петр.
— Великие бедствия, царь, готовишь ты державе твоей в сердце твоем: сердце твое отвратилось от сына, а он — не Авессалом. Помни это! — сказал Митрофаний. — Слезы нелюбимого отольются горчайшими слезами на любимом. В новом браке твоем, царь, я предвижу горе для сына твоего.
Царь слушал, задумчиво склонившись на руку и, по-видимому, прислушиваясь к стуку топоров и визгу пил, доносившихся с пристани.
— Напрасно, владыко: я люблю Алексея, — сказал царь по-прежнему задумчиво, — только он не любит моего дела.
— Оттого что ты его не любишь.
— Не знаю, но он назад глядит, а не вперед.
— А потому, что назади у него — образ матери…
Лицо Петра передернулось.
— Не напоминай мне царицу Авдотью, — сухо сказал он.
— Я напоминаю тебе все, что велит мне совесть моя, я иду отдавать отчет Богу и Царю моему и твоему… Ты вспомнишь меня в самые тяжкие часы твоей жизни и тогда уверуешь в слова мои: в кого ты душу свою положишь, от того душа твоя прободена будет…
— От кого же? — живо спросил царь.
— Я не знаю, я не пророк: я не имена говорю тебе, а заповеди человеческие.
В это время в кабинет, где сидели царь и Митрофаний, вошел Павлуша Ягужинский и остановился у двери. Лицо юноши было необыкновенно оживлено, на щеках играл румянец, в глазах светилось что-то особенное.
— Ты что, Павел? — спросил царь, пристально взглядываясь в лицо своего любимца.
— Посланцы, государь, от гетмана Мазепы приехали.
— Кого прислал он?
— Енерального судью Василия Леонтьича Кочубея с бунчуковыми товарищами.
— Добро… Скоро приму их… А ты что такой веселый? — неожиданно спросил царь.
Павлуша смешался, еще более покраснел — и готов был провалиться сквозь землю.
— Я… ничего, государь… так, — бормотал он.
— Не так, — я знаю тебя, — ну! — настаивал царь.
— Я, государь, Диканьку вспомнил (Павлуша знал, что солгать царю нельзя было — допытается)… Там в саду так хорошо… и Кочубей там, и Мазепа…
Но юноша не досказал: не Кочубей и не Мазепа вспомнились ему в этих цветах, а Мотря; только о Мотре он не сказал царю… А между тем эта Мотря прислала с отцом поклон ему, Павлуше… Вот отчего горят его щеки…
Царь улыбнулся, а Митрофаний, глядя своими кроткими глазами на Павлушу, с любовью шептал: «Дитя… сих бо есть царство Божие…»
«Она не забыла меня», — билось радостно сердце Павлуши, и щеки его еще пуще горели.
V
Прошло три года после описанных нами событий. Петр продолжал войну с Карлом XII; положение дел год от году становилось с обеих сторон напряженнее, и грозный, никому не ведомый исход этой роковой борьбы тем более обострялся, что напряжение сил и с той, и с другой стороны, можно сказать, уже переходило за предел упругости — сталь событий, если можно так выразиться, не там, так здесь должна была лопнуть. Петр ни за что не думал уступать Балтийское море, и лихорадочно работал над укреплением Петербурга и ключа к нему — Котлина с нововозведенной крепостью Кронштадтом. Для этой борьбы Россия должна была нести страшные, небывалые жертвы: для того, чтобы достать средства на войну, царь обложил налогами и землю и воду, живых и мертвых. Обложена была податью даже борода — от 30 до 100 рублей, смотря по человеку, что на наши деньги составляет тысячный налог на одну бороду. Рабочие, приходившие в город для заработков, должны были платить по две деньги всякий раз, как входили в городские ворота и заставы или выходили из них, если были с бородами. Зипун, армяк, чапан, однорядка — всякое русское платье, входившее в город, платило 13 алтын 2 деньги, когда оно входило в город пешим, и 2 рубля — конным. Каждый мужик, идя в город, должен был нести в казну три камня для мощения улиц. Дубовые гробы были отобраны у продавцов и продавались четверною ценою богатым и благочестивым людям для их мертвецов. Рекрутские наборы чуть не превратились в поголовщину.
Читать дальше