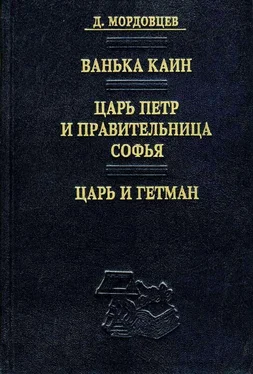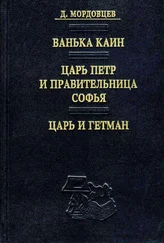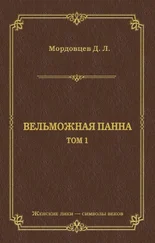— Буди благословенно пришествие твое, о царю! — ясным юношеским голосом говорил дряхлый епископ. — Да будут благословенни вси пути твои и начинания во благо Русской земли, ради счастия народа твоего вернаго… Буди славен и препрославлен труд твой, подъятый ради возвращения отечеству невских берегов, их же ороси некогда кровь предков твоих и предков народа русскаго под святым стягом благовернаго князя Александра Невскаго… Тела убиенных тамо вопияли ко Господу о возврате останков их родной земле… И ты, царю, возвратил русския кости убиенных тамо Русской земле, и за то молится о тебе святая церковь… И ты молился о душах их, царю?
— Молился, владыко, — отвечал царь.
— Да благословит тебя Господь Бог!
Епископ широко осенил крестом сначала царя, потом народ на все четыре стороны… Высоко поднялись за крестом в воздух тысячи рук, и какой-то радостный ропот, словно ропот волн, прошел по толпе от края до края…
— Многая лета!.. Многая лета! — гремел хор вослед удалявшемуся царю.
Часть толпы бросилась за царем, большая же половина стеной окружила епископа, жаждая поближе взглянуть на него, получить благословение, прикоснуться к его ризам… Тут сказывалось глубокое благоговение и беззаветная, детски неудержимая любовь к святителю…
Да и как мог народ не любить Митрофания! Все эти тысячи и десятки тысяч согнанных со всех концов России строителей великого ковчега — плотники, пильщики, каменщики, землекопы, «амо обращающие потоки водные, камо от — века не текли они», этот бедный народ, пришедший на богомолье и терпящий от голода и холода, — все эти алчущие и жаждущие, страннии и обремененнии, слепые и хромые каждый день толпятся у архиерейского двора и получают из обширной архиерейской поварни все, чего им по бедности не довелось ни допить, ни доесть… Это было всенародное кормление, лечение, призрение… Сам владыка изо дня в день бродил своими старыми, недужными ногами по оврагам, норам, трущобам и язвинам, где в непогодь укрывались голодные и больные строители великого ковчега, и всех их кормил, поил, лечил, утешал, сам падая от изнеможения… Огромные архиерейские мастерские были заняты день и ночь изготовлением для бедных теплой одежды и обуви… Криками радости и благословениями встречали святого старичка бабы и дети, едва замечали вдали черный клобук святительский и под ним кроткое апостольское лицо, улыбавшееся детям… О, народ недаром сам канонизует при жизни своих любимцев — святителей и угодников: только непосредственным добром народу заслуживается народная слава…
Как ни был смел Фомушка — юродивый, который даже царя не боялся, но при виде Митрофания пропала вся его смелость и находчивость: раз только святитель взглянул ему в очи своими кроткими, детски чистыми глазами — и Фомушка понял, что угодник одним взглядом прочитал всю его жизнь, заглянул во все сокровенные изгибы его души, выкопал из-под пепла прошлого все, что даже он сам давно забыл, похоронил, отмолил у Господа…
— Ох, страшно, страшно всеведение святости, — бормотал он, пряча свои глаза, — разогнулася книга моя животная — листок по листку… Ох страшно, Господи!
Петр, для которого московские бородачи и черные клобуки были более ненавистны, чем шведы, только перед одним клобуком невольно смирялся как перед олицетворением нравственной идеальной чистоты, добра и правды — это перед клобуком смиренного, кроткого Митрофана. Гордый царь чувствовал, что в худенькой, костлявой руке, благословлявшей обнаженные головы толпы, было больше силы, чем в его державной мозолистой руке, и не завидовал этому…
«Эти живые мощи сильнее меня, — думалось ему, когда толпа заколыхалась, бросившись вслед за уходившим святителем, — он один не понимает своей страшной силы, точно младенец невинный».
В этот приезд в Воронеж царь особенно чем-то озабочен был даже при виде своих любимых кораблей. Лицо его чаще обыкновенного нервно подергивалось, и Павлуша Ягужинский, который всегда видел его насквозь, на этот раз никак не мог понять причины тайного беспокойства своего повелителя. Один раз в жизни он видел у царя почти такое же выражение лица с нервными подергиваниями, но тогда глаза его метали искры гнева, а теперь они казались более задумчивыми… То было давно, когда Павлуша был еще очень маленьким и служил у Головкина: то было во время стрелецкой расправы… Но что теперь происходило в душе у царя, Павлуша не мог понять. Одно он заметил: когда в этот раз проездом из Питербурха в Воронеж они останавливались в Москве, царь несколько раз беседовал о чем-то наедине с царевичем Алексеем Петровичем, казался раздраженным и рассеянным, а потом долго разговаривал о чем-то с Мартою и в разговоре несколько раз настойчиво произносил слово «пароль» и упомянул имя царицы Авдотьи…
Читать дальше