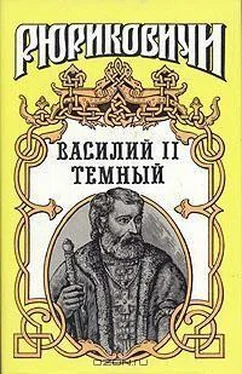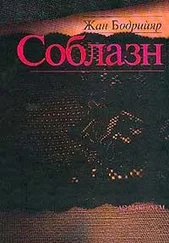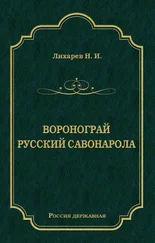Он поднял голову и увидел помертвевшее лицо инока Симеона, прижавшегося на коленях к раке:
— Светопреставление, князь, — едва шептал он. — Последнее кощунство! Жив останусь, всю правду проних… всю правду!
Никита Константинович, ворвавшись в монастырь, в ярости покружил на коне по подворью, а потом, сам себя разжигая, плетью заставил коня нести его прямо на высокую паперть и был за это немедленно же наказан. Конь споткнулся на ступенях, Никита слетел с седла, ударился о камни. Соратники по разбою и те же незлобивые монахи подняли его, оттащили в сторонку, в затишек; «он же едва воздохнув и бысть яко пиян, а лице яко у мертвеца», — выразился потом об этом происшествии свидетель его Симеон.
Иван Можайский, тоже не слезая с коня, громко вопрошал:
— Где великий князь ваш? Что это он такой гордый? И повидаться с роднёй не хочет?
— Всё изгаляешься, брат? В такой-то час? — Василий Васильевич стоял перед ним, чуть покачиваясь, в распахнутой шубе, с лицом белым, как помороженный. Пока занимались расшибшимся Никитой, он вышел через южные церковные двери никем не замеченный, прошёл на подворье и сам позвал Ивана Можайского. — Я мог бы пытаться бежать, даже и сейчас прямо мог бы спрятаться у кого-нибудь в келье, но не стал. Видишь, я здесь. Слезай, поговорим.
Иван был очень настроен дерзить и куражиться, но неожиданно для самого себя послушно слез с коня и пошёл за Василием.
— Брат любезный, — говорил тот на ходу убеждающе и почти спокойно, — помилуй! Отдаюсь на волю твою. Не лишай меня святого места: оставлю я заботы княжеские, заменю их подвигом поста и молитвы, никогда не выйду отсюда, здесь постригусь, здесь умру.
Они вошли в храм, где все умолкли при их появлении.
— Брат и друг мой, — продолжал Василий через силу, словно во сне, — Животворящим Крестом в сей церкви, над сим гробом преподобного Сергия клялись мы в любви и верности взаимной, а что теперь делается надо Мной, не понимаю? Ты в церковь с оружием зашёл!
Иван, казалось, и сам был смущён такой кротостью великого князя:
— Государь! Если захотим тебе зла, да будет и нам зло. Нет, желаем единственно добра христианству и поступаем так с намерением устрашить Махметовых слуг, пришедших с тобой, чтобы они уменьшили твой окуп.
— Верить ли тебе, Иван? Правду ли говоришь? Смотри, перед чьим гробом мы стоим! Во зле, кое вы учиняете, сей нам судья!
Глаза у Ивана Андреевича сами собой ехали в сторону. Вроде бы и в его власти Василий, и смирен, и унижен, а всё как-то не по себе. Человек, решившийся на зло с сознанием собственной неправоты или, по крайней мере, с сомнением: должно ли поступать по злу, — трудно идёт до конца по преступному пути. Вот и сейчас князь можайский заколебался, не объясниться ли с Василием впрямь, не отступиться ли от мерзостного умысла? А что как Шемяка оговорил Василия? Ну, они власть давно делят, никак не поделят. А зачем ему-то, Ивану, сюда впутываться?
— Кто бы ни был на престоле вместо меня, — продолжал уговаривать Василий Васильевич, — без согласия князей не будет мира на земле Русской. Не будет мира — не будет и силы. Не поладите вы с Шемякой и без меня. Так ли говорю?
Иван Андреевич опустил голову. Готов был уж и согласиться, но тут возник перед ними оклемавшийся Никита Константинович. Хватаясь за стены, возликовал:
— Вот вы где! — И, грубо схватив Василия Васильевича за руки, объявил: — Ты пленник великого князя Дмитрия Юрьевича!
— Да будет воля Божия! — вдруг тихо согласился Василий Васильевич.
Его поволокли.
В тоскливом сомнении и стыде остался стоять у раки Иван Можайский. Но поздно уже было что-либо переменять. Не чувствовал он в себе сил состроенный заговор обратно раскрутить. Поздно раскаиваться. У зла свои законы, и, раз им подчинившись, как их переломить?
Василия Васильевича толкнули в голые сани, стоявшие в окружении конной стражи.
— Гляди, чтоб не убег до Москвы! — угрозной шуткой наказал Никита вознице.
Сани тронулись, раскатившись на повороте, Василий Васильевич свалился на бок. Возница обеепокоенно оглянулся, и великий князь не мог сдержать возгласа удивления:
— Как? Ты — монах, и тоже против меня?
Монах был одет в меховую душегрею поверх рясы, на голове тёплая бархатная скуфья, на руках — персчатые рукавицы. Он смотрел на великого князя без сочувствия и без осуждения, только с печалью. И ответил поникшим голосом:
— Как же мне не быть против, если сам государь на водит татар на Русь? Василию Васильевичу стала окончательно ясна его судьба, хотя он и не мог тогда ещё представить, насколько она окажется страшной.
Читать дальше