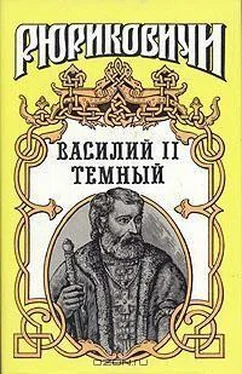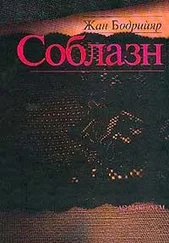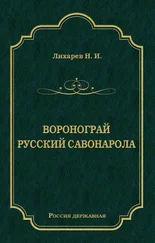Симеон разлепил глаза, не понимая, где он находится и что с ним. Прямо над головой на тёмно-синем небе, таком тёмном, таком синем, какого не бывает на Руси, — резные широкие листья дерева неведомого, и кажутся они даже чёрными, хотя солнце всё кругом заливает.
А голос приснившийся продолжал договаривать, но уже прерываясь и пропадая: «…прошед немного… место увидите, где две палаты и подле них жену… именем Евгения… примет вас в дом свой и успокоит… а потом вскоре…»
И всё пропало. Симеон вскочил.
— Хлебушка бы теперь, зевай, сказал Фома, мягонького, с угольком на боку запечённым. Надоела еда ихняя. А ты и мяса не ешь. Ослаб, поди, совсем?
— Видение я имел… в тонком сне, — признался инок.
— Ну-ка, к добру иль худу?
— Что ты как спрашиваешь? Чай, не домового я видал.
— Иль каши! — мечтательно продолжал Фома. — Гречишной. В горшке. Чтоб выперло. А сверху — корочка красная. А? Из печки на ухвате стряпуха несёт. Сама бока-астая!..
Симеон невольно засмеялся:
— Эк, бес-то тебя донимает, боярин!
Фома тоже засмеялся:
— Прости, батюшка. Это с голоду у меня, с устатку. Всё брашна мерещатся. Ну, скажи, тебе-то что пометилось?
— Не пометилось, а видение, — потупился Симеон. — Сергия я видал, — закончил он шёпотом.
— Иль вправду? — обрадовался боярин. — Теперь не пропадём! С преподобным нашим не пропадём. Он с худым не является. Моли Бога о нас дальше, батюшка Сергий! — Фома перекрестился и встал. — Ну, побредём, отец! Лепота кругом — око радует, а брюхо подлое урчит и радоваться не даёт.
С холма, насколько хватало зрения, простирались во все стороны виноградники, лилово-голубые в знойной дымке. А воздух нежил, хотя и пекло.
— Мы привыкшие, — легко сказал Симеон, препоясываясь потуже. — Низшее не может осилить высшее, то ись брюхо — глаз. Я вот что тебе скажу, — продолжал он, спускаясь по тропинке впереди Фомы. — В некоем монастыре греческом повадилась братия в огород ходить и с огородником воевать, овощей с него требуя сверх трапезы. А игумен говорит: это сатанинское дело и ему не следует быть. Как ты преодолеешь страсти и осилишь труды, когда тебя даже овощ побеждает?
Путешественники ещё посмеялись. — Легче пера будешь, смиренный брат мой, если укрепишь себя воздержанием! — убеждал Симеон, резво перескакивая через белые валуны.
— Укрепимся в сём и утвердимся, — с невеликой охотой поддерживал его Фома, неловко перелезая через препятствия.
Тропинка привелаих к большому винограднику, полному спелых запылённых гроздей, поднятых на арки. Прежде чем вступить в густую спасительную тень, Симеон остановился, обернулся к боярину:- А ещё он сказал, Фома, это преподобный-то во сне моём, обещался, мол, ты посетить обитель мою в Троице, да не посетил. Теперь же поневоле будешь там. К чему бы такое?
— Изнемог я, отче, — вяло отозвался Фома. — Идём скорее, вон туча накрывает, как бы под дождь не попасть.
— Дивно, дивно. К чему он так сказал? — всё качал головой монах, пробираясь виноградником.
Когда промокшие до нитки от тёплого ливня, облепленные виноградными листьями, сорванными ветром, выбрались они наконец к вечеру на берег мутной быстрой реки, то первое, что увидели, — одинокий дом из светлого песчаника, который как будто ждал их. Его высокие стены, исхлёстанные дождём, прорезали узкие окна, красная острая крыша венчала пустынное жилище. Женщина в переднике и деревянных башмаках стояла, держа белую козу за шею и, прикрывая глаза рукой от закатно засиявшего солнца, смотрела на путников.
Молчаливым жестом пригласила она их к очагу, подала сыр и хлеб и кислое слабое вино в кувшине. И не испрашивала ни о чём. Развела огонь, чтоб могли обсушиться, пальцем показала место ночлега — старую деревянную кровать с грубыми холщовыми простынями.
Никогда ещё за всё время отъезда с Руси не был им так сладок покой и отдых. На рассвете их разбудило козлиное блеянье за окном и шум воды, льющейся в таз для умывания. Они вышли из дома и увидели широкую, освежённую дождём зелёную долину, куда им предстоял дальнейший путь. Хозяйки не было видно, но хлеб и сыр и тяжёлая гроздь винограда лежали тут же, на камне у двери.
Когда они помылись и, выпив по кружке козьего молока, пошли, Фома вдруг сказал:
— Что-то я лица совсем не запомнил хозяйки-то нашей… А ты?
— И я не запомнил! — удивился Симеон.
И оба почему-то враз оглянулись.
Она стояла далеко у своего дома. Только белел передник на груди. Но голос мелодичный был отчётливо слышен, и видно было, как рукой она показывает себе на грудь:
Читать дальше