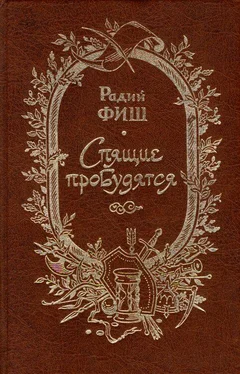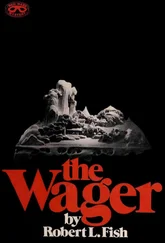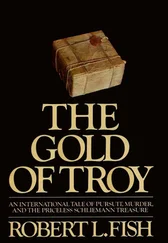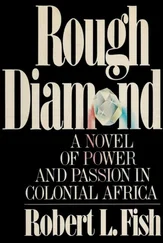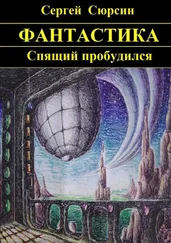Кадий был не только главой духовенства, но и судебной властью в городе и округе, назначение он получал от самого султана особым указом — бератом, а жалованье — из государевой казны.
Кто дает деньги, тот играет на дудке. А по мелодии, которую выводит дудка, можно догадаться, что на душе у хозяина. При известном навыке по пятничной проповеди кадия Куббеддина можно было определить, куда дует ветер в державе Османов.
Особой величавой походкой, не властителя, а ученого богослова, кадий приблизился к кафедре; грузный в широкополом кафтане — джуббе — и огромной чалме, поддерживаемый под руки служками, взобрался по ступеням, расположился поудобней, воздев руки, возгласил хутбу — благопожелание здравствующему государю Гияседдину Эб-уль-Фетху Мехмеду бин Эбу Язиду Эль-Кирешчи, или, попросту говоря, султану Мехмеду Челеби.
Каждую проповедь принято начинать с толкования какого-либо стиха Корана. Выдержав паузу, Куббеддин прочел: «Творя молитву, простирайтесь ниц». То был тринадцатый стих из шестьдесят второй суры Корана; толкование его принадлежит к одному из начальных разделов богословия, где трактуются обязанности верующих по отношению к культу, и не составляет труда для муллы, едва закончившего медресе. Изъяснение Куббеддина и не отличалось от таковых: мысли заезжены, примеры и сравнения избиты, как старая обувь. Но зато он в совершенстве владел искусством, растягивая слова, постепенно возвышать голос до того предела, когда проповедь начинала звучать повелением не Куббеддина, а самого Аллаха и давно известное наполнялось сознанием необычайной значительности.
Споспешники Бедреддина быстро заскучали: они привыкли внимать не голосу, а мысли, ценить не столько красоту слога, сколько заключенное в словах содержание. Анкарец Маджнун, разглядывавший зеленые узоры на изразцовых стенах, где стебли, листья, лепестки и бутоны сливались в видимый глазом ритм, вдруг обнаружил, что ритм этот странным образом совпадает с теченьем речи Куббеддина, и принялся раскачиваться ей в такт. Абдуселям, некогда изучавший риторику по книгам древних греков, с удивлением следил за тем, как кадий долго возвышает и возвышает свой голос, а все не найдет предела, за коим неизбежен спад.
Куббеддин тем временем продолжал нести хвалу Вседержителю миров, пред коим человек, его безвольное создание, ничтожный раб, подобен пылинке пред яростною силой урагана.
Когда, судя по всему, проповедь должна была подойти к концу, кадий неожиданно прочел еще один стих Корана: «Аллаху, посланнику его и властителям вашим повинуйтесь!» Сопряженье этого стиха с первым, с коего началась проповедь, в едином толкованье насторожило всех, кто был хоть мало-мальски сведущ в богословии. Бедреддин знал, что кадий Куббеддин вертит своей выей вслед за властителем на престоле, как подсолнух за солнцем. Но столь низкого пресмыкательства он все же от него не ожидал. Неужто Куббеддин всерьез предлагает не только рабам государевым, состоящим у него на службе, но и свободным общинникам и даже улемам, склонявшимся только пред повелениями Аллаха, кидаться носом в землю перед султаном? Да ведь это было бы равносильно открытому кощунству!
Но старая лиса Куббеддин был не столь прост, чтобы дать себя поймать на слове, хотя мысль его конечно же была кощунственна в своей верноподданности.
— Подобно тому, как простираются ниц пред подателем всех благ рабы его, — заключил он свою проповедь, — надлежит слагать своекорыстные вожделения и частные заботы свои к стопам законного государя, дабы с честью выполнить волю его, ибо власть его, как гласит Коран, от Аллаха, милостивого и милосердного…
Из мечети возвращались молча. Толпа почтительно расступалась перед ними: за целый год не смогли привыкнуть горожане к тому, как ходят по улицам споспешники Бедреддина. Одеты подобно дервишам — в серых суконных плащах, в простых стеганых халатах. Отвечают на приветствия неторопливо, но кратко, как улемы. Шагают решительно и споро, как воины. И в то же время что-то отличало их от тех, и от других, и от третьих. Маленькая кучка людей, сплоченных каким-то общим делом, устремленная к неведомой горожанам цели, сосредоточенная на какой-то единой мысли.
Шейх тотчас поднялся к себе. Ученики остались во дворе. В ту пятницу десятого раджаба восемьсот восемнадцатого года, если считать со дня хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, или четырнадцатого сентября тысяча четыреста пятнадцатого года, как считали френки, латиняне, со дня рождества Христова, день выдался погожий. Ветерок с Енишехирского перевала рассеял на рассвете туман, отогнав на север гнилостное дыхание приозерных топей. На синем небе — ни облачка. Сладкоголосая вода журча ниспадала из каменных пастей, располагая к размышлению. Жужжали пчелы, торопясь добрать последние взятки с покорно склонивших головы осенних роз.
Читать дальше