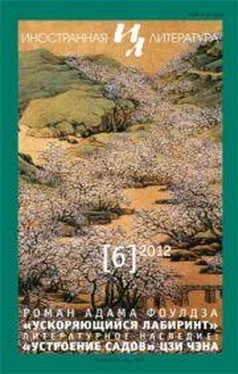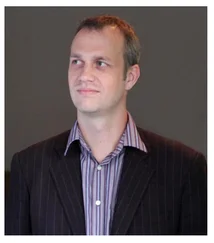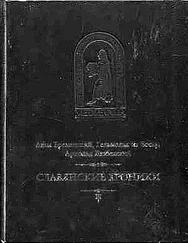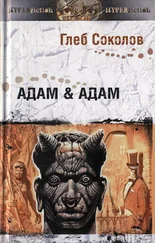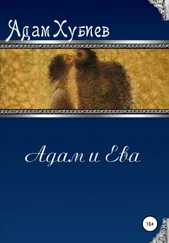— Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна.
— Ну конечно, — парировала она. — Цветы. Визиты.
Он помотал головой, что-то бормоча себе под нос, словно ему помешали. И начал заново.
— Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна. — Ханна могла себе представить, сколько раз он прокрутил все это в уме, сколько раз продумал, где именно они остановятся, что именно он скажет, и эти его серьезность и безрадостность были лишь показателем того, сколь сильно он желал, чтобы все вышло как положено. И, разумеется, в ее власти было, подчинившись его мечтам, сделать так, чтобы все выдуманное им стало явью. Она, развеявшая по ветру так много собственных фантазий, могла даровать ему это чудо, и ей страстно захотелось именно так и поступить.
— Я прошу вашего разрешения просить вашего отца о разрешении, — он моргнул, словно сомневаясь, что произнесенное им имеет хоть какой-то смысл, — о разрешении просить вашей руки.
— Да.
— Ханна. Вы бы согласились стать моей женой?
Ханна улыбнулась и честно ответила:
— Согласилась бы.
— Ах! — улыбнувшись, он поднял сжатые кулаки, но тотчас совладал с собой. Ведь пока нельзя сказать, что дело сделано, еще не все его мечты нашли свое воплощение.
— Можно… можно мне поцеловать вашу руку?
Ханна широко распахнула глаза. Сердце ее при этих словах заколотилось. Ну, наконец-то вздыхают и целуют.
— Да, — прошептала она и протянула ему правую руку.
Томас Ронсли ухватился за нее обеими руками и, не говоря ни слова, перевернул и принялся расстегивать пуговки на перчатке. Должно быть, и это он себе тоже намечтал. Она глядела, как он нежно стягивает с ее руки перчатку, как, не решаясь перевернуть, держит ее в своей, как наклоняется, как целует руку, горячо дыша и щекоча бородой, а потом зажимает ей пальцы в кулак, будто бы только что дал ей монетку.
Складывая книги, он курил. Выдыхал клубы дыма, чуть поджимая губы, и читал названия на корешках. Purgatorio [25] Чистилище (итал.). Вторая часть «Божественной комедии».
. Так он и не одолел итальянского, чтобы прочесть Данте в оригинале. Ну, разумеется. И никогда не одолеет. Он вернется в Сомерсби, но и там ничего не сможет. Нет, он уйдет туда с головой и растает, словно дым в воздухе. Его окружат тени предков, их черная кровь будет течь у него по жилам. Выхода нет. Он ничем не отличается от любого другого английского поэта, разве что притащил сюда с собой сумку, набитую неоконченными стихами, а новые, об Артуре, застряли у него в горле, но дело не в этом. В конце концов, если они и будут когда-то опубликованы, критики вновь примутся их хулить, и никакой Хэллем уже не встанет на его защиту. Нет, он возвращается ни с чем. Он вкусил мира, вкусил предпринимательства, и вот теперь он банкрот, его деньги поглотил безумный проект безумного доктора. Вот так унижение. Хуже того, ему придется вернуться в родительский дом и жить там, стараясь избегать лишних расходов. Он поверил прожектам доктора, сочинил несколько стишков, и все. Да и вообще он выдохся. Перегорел. Вот сейчас он закончит упаковывать свои книги. Придет слуга, уберет комнату, изничтожив все следы его пребывания. И отправится он в Сомерсби курить, угасать, а если будет настроение, сочинять новые стихи об Артуре.
Ханна не слушала, что говорил отец. Слушала мать, сидевшая рядом с нею у органа. Низко склонив голову, Элиза неотрывно смотрела на свои красные скрюченные пальцы, покоившиеся на коленях. За последнее время Ханна не раз заставала ее замершей вот так, в одиночестве. Мать сидела, съежив узкие плечи, отчего делалась похожа на наказанную девчонку. А потом быстро поднималась и становилась по-прежнему деятельной.
Ханна рассеянно глядела на регистры органа, на клавиши цвета слоновой кости. У каждого регистра свой голос, и перечень этих голосов бряцал у нее в голове всякий раз, когда она сидела рядом с матерью, переворачивая ноты: Рожок. Бомбарда. Тридцатидвухфутовый тромбон. Микстура. Гемсхорн. Дульциан. Малая труба. Приходили они на ум и теперь, но не приводили ее в бешенство, как прежде, а звенели радостно, словно птичьи трели в саду, а ведь всего-то и дела было, что вспомнить о лежавшем у нее на туалетном столике письме Томаса Ронсли, о его обещаниях, об ожидавшем ее будущем.
— Горе разделяет людей, — вещал доктор Аллен, вцепившись обеими руками в кафедру. Он взирал на своих безумцев, взывал к ним. — Вот зачем оно нужно. Его ниспосылает нам Господь, чтобы заставить нас обратиться к Нему, чтобы показать, что лишь Он — единственное наше истинное спасение, чтобы увести нас от столь ненадежного непостоянства наших собратьев в храм Христов.
Читать дальше