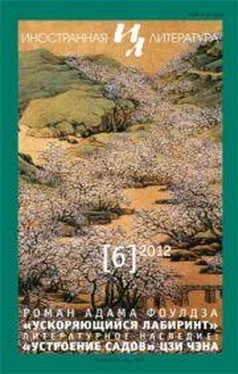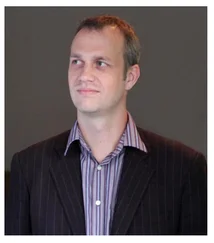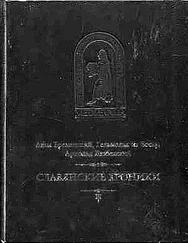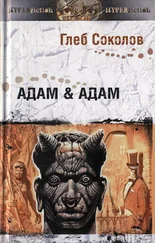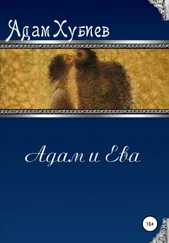— Простите, я совсем перестал интересоваться поэзией. Но его имя мне знакомо. Он тоже здесь? Боюсь, критики его не пожалели. Не слишком-то они подобрели с тех пор, как нападали на моего бедного Китса. Надеюсь, они его не сломили. Он тоже лечится у вашего мужа?
— Нет-нет. Лечится его брат, меланхолик. Знаете, к ним приехали родные, целая толпа, и сейчас они как раз у нас. Конечно, Альфред тоже подвержен приступам дурного настроения. Но он не болен.
Они свернули с тропы и направились к Фэйрмид-Хауз. Гости как раз пили чай. Мэтью Аллен стоял с чашкой в руке, разглагольствуя перед сидевшей вокруг него молодежью, состоявшей преимущественно из дам, две из которых разглядывали кусочки древесины. Заметив издателя, он внезапно умолк, но, поприветствовав вновь вошедшего взглядом, окончил фразу.
— Мистер Тейлор, рад вас видеть! Садитесь же. Фултон!
Фултон послушно поднялся и предложил гостю свой стул.
— О нет, благодарю. Простите, я не могу остаться. А вы, стало быть, Фултон. Вы подросли.
— Спасибо, — сказал Фултон и опустил глаза, застеснявшись столь глупого ответа.
— Позвольте мне вас познакомить. Джон Тейлор, это — Теннисоны.
— Целая куча Теннисонов, — пробормотал один из них.
— Возможно, вы слыхали про Альфреда Теннисона. Альфред, это Джон Тейлор, который некогда издавал Китса, Хэзлитта, Лэма, беднягу мистера Клэра и, должен признать, один из моих собственных трудов, посвященный классификации видов безумия.
— Я о вас наслышан, — заверил Тейлор Теннисона, который поднялся, чтобы пожать ему руку. — Вас называли кокни, насколько я помню, и сравнивали с Китсом [21] Про Джона Китса (1795–1821), лондонца и выходца «из низов» (отец его содержал конюшню), критики писали, что он не лишен таланта, но загублен «Школой кокни» («Школа кокни в поэзии» — название разгромной статьи Дж. Кроукера в «Квартальном обозрении» 1817 г.).
.
— Какой же я кокни, я ведь родом из Линкольншира. Но меня обвиняли в той же примерещившейся им чувственности и лености. Слишком много чести для меня, знаете ли, пусть они сами того и не желали. И, конечно же, особая честь для меня — пожать руку другу Китса.
— Знакомство с ним было само по себе честью.
Альфред Теннисон был высок и смугл, длинноног и большерук, а его бронзовое лицо украшал широкий рот. Тейлор, сравнивая его со своим покойным другом, видел в нем иное томление, своего рода усталую праздность, знаменующую его присутствие в этом мире. Все это было так не похоже на Китса, но виделось и кое-что общее — возможно, вот это исполненное смысла молчание. Вместе с тем Теннисону недоставало стремительности Китса, его разящего гнева.
— Вы издаетесь у Мюррея, верно? Очень достойный издательский дом. Надеюсь, опубликуете что-нибудь еще. Не позволяйте журналам вас расхолаживать. Не снисходите до их варварских развлечений, до этой пустой болтовни по кофейням.
Теннисону доводилось слышать голос старшего поколения из этаких «кофеен». И тем более важна была для него поддержка старшего товарища, знававшего истинных поэтов.
— Благодарю вас. Не думаю, что им под силу меня остановить. Больше я попросту ни на что не гожусь. А вы сейчас издаете стихи?
— Увы, нет. Они совсем перестали окупаться. Как вы знаете, нынешнему читателю подавай что-нибудь полезное или, на худой конец, прозу. Но поэзия выживет. Цивилизация без нее невозможна. — Внимание Тейлора невольно привлек модный серебряный чайник со сверкающими боками. Слова Элизы Аллен обрели плоть: они и правда процветают. — Она не будет окупаться, но выживет. По крайней мере, хотелось бы верить. Да, кстати, что касается денежных вопросов. Доктор Аллен, вы не могли бы уделить мне немного времени?
— Разумеется.
— Рад был с вами познакомиться. — Джон Тейлор поклонился собравшимся.
Теннисон проводил его глазами. Маленький человечек, не то чтобы слишком умный, с усталым добрым лицом. Но — друг бессмертных, один из немногих выживших среди тех, кто принес свою жизнь на алтарь поэзии.
После того как надежды ее развеялись как дым, а на глаза то и дело наворачивались слезы, Ханна вознамерилась невзлюбить семейство Теннисонов — если бы отец так не настаивал, она бы вообще к ним не спустилась, — но ничего у нее не вышло. Леди были умны и неординарны, в высшей степени решительны и хороши собой, особенно красавица старшая сестра Матильда, которая могла бы дать фору самой Аннабелле. Восхищение Ханны лишь усилилось, когда она увидела, что Матильда ходит медленно, чуть припадая на одну ногу. А когда они заводили речь о своем доме, он представал тихой пристанью, о какой она мечтала для себя: множество книг и животных, игры собственного изобретения, никаких тебе сумасшедших и никакого производства прямо рядом с домом. Абигайль тоже понравилось то, что донеслось до ее ушей: до чего же здорово, когда у тебя есть ручная обезьянка или огромная собака, которая возит маму в коляске. Она тотчас же затребовала у отца обезьянку, но тот отказал со смехом, словно бы счел саму эту идею нелепицей, не стоящей того, чтобы о ней задуматься. А ведь их тут вполне достаточно, чтобы позаботиться об обезьянке. Вот было б весело! Ханна старалась не смотреть на Теннисона. Поначалу она обвиняла его в равнодушии, потом — в том, что он не устоял перед чарами Аннабеллы, которая не оставляла равнодушными даже самых тупоумных. Но изгнать своего чувства полностью она, конечно же, не могла. Презрение болезненно переплелось в ней со страстным томлением. Она разглядывала скатерть. И прихлебывала чай.
Читать дальше