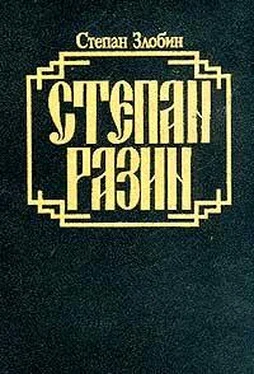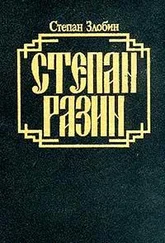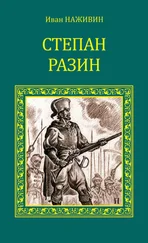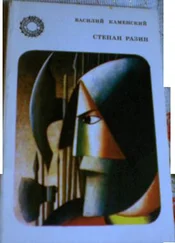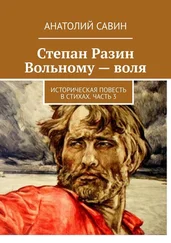— Волков развелось? — спросил за работой кузнец.
— Житья нет! — подтвердил помещик с какой-то странной усмешкой. — Да ты, кузнец, мне еще будешь нужен, — сказал он. — До села дойдешь — во дворянском дому заночуй, скажи — я послал. Ворочуся домой, тебе станет еще работы.
В помещичьем доме стряпуха их накормила.
— Каков ваш помещик? — спросил кузнец.
— Али добры дворяне на свете бывают? — вопросом ответила женщина. — С собаками ласков, — пояснила она и внезапно умолкла.
— А ну их, пойдем отсель! — позвал кузнеца Стенька.
— Упаси тебя бог уходить, когда сам повелел дожидаться! — сказала стряпуха. — Догонит, плетьми исхлещет и работать задаром заставит. А угодишь ему, то и пожалует!
— Идем со двора! Пусть изловит, а там ворочает! — воскликнул Стенька, в котором взыграла казацкая гордость.
— Что собак-то дражнить! Абы деньгу платили, — возразил кузнец. — Ну догонят да поколотят. Что нам за корысть!
Их уложили спать.
Поутру раным-рано во дворе послышались крики, свирепый собачий лай, конский топот и ржание.
— Ну вот, воротились, — сказала стряпуха, испуганно засуетившись, дрожащей рукой зажигая светец.
— Пойдем на волков поглядим, — позвал кузнеца Стенька.
И вдруг со двора раздались отчаянные женские крики, плач, причитания.
При бледном свете синего зимнего утра Степан увидел среди двора сани, полные истерзанных, окровавленных людей. В крови у них было все: руки, лица, лохмотья одежды.
— Аль их волки порвали? — с сочувствием спросил Стенька.
— Какие там волки! — огрызнулся один из дворовых.
И Стенька узнал, что помещик ездил совсем не на волчью травлю, а на облаву за беглыми крестьянами, которые скрылись в лес и жили в землянках.
На санях привезли беглецов, истерзанных дворянскими борзыми. У некоторых из них были изглоданы лица, у других откушены пальцы рук, вырваны клочья мяса из тела. Тех, кто пытался отсидеться в землянках, либо насмерть заели собаки, либо их, как медведей, травили соломенным дымом, и одного задушили насмерть…
В числе беглых был деревенский кузнец. Теперь он лежал на санях, искалеченный псами. Вместо него-то помещику и понадобились Стенька с товарищем.
Помещик велел кузнецам приковать пойманных беглецов цепями в подвале под каменной церковью.
— Отсель не уйдут! — довольный, сказал он. — При Иване Васильиче Грозном сей храм прадедушка мой построил. Крепко строил — хотел заслужить за грехи у бога.
Степан не ударил его кувалдою, как хотелось, но зато, покидая помещичий двор, вместо того чтобы залить водой или присыпать снежком горячие угли, как делал это всегда после работы, он высыпал горсточку их под помещичью хлебную клеть…
Уже далеко идя, они с кузнецом услыхали церковный набат. Степан усмехнулся.
— Ты что? — строго спросил кузнец. — Что за смех, коль беда у людей?
— Дворянской бедой не нам бедовать! — значительно возразил Степан.
Целый час они шли в молчании.
— Иди от меня подобру, — вдруг прорвался кузнец. — У меня на посаде жена да робята. С тобою в тюрьму попадешь… Иди подобру! До всего тебе, видишь, дело! Нашелся за мир заступщик! Али, мыслишь, ты мужиков облегчил?!
И Стенька пошел один.
«Дед сказывал: до всего человеку дело. А кузнец осерчал, — раздумывал Стенька. — Ан как тут терпеть, коль на муки людские глядишь! Не за себя я помстился, не из корысти пожег дворянина».
«Разбойничать — что комаров шлепать», — вспомнил он слова старика. — Всех перешлепать невмочь, а сидит на лбу да сосет. Зазудит — и шлепнешь! Какое тут диво!..» — успокоил себя Степан.
Он подходил к Москве. Казаки зимовой станицы, по сланной по обычаю с Дона в Москву на зимовку, конечно, подсобили бы Стеньке добраться домой: дали бы денег, а может, и коня. Но он не решился идти через Москву и являться в Посольском приказе, помня, что все богомольцы звали его казаком и в Москву заходить опасно…
Только после масленицы Степан миновал Коломну и подходил к рязанским уездам.
Перед уходом Степана в Соловки Сергей Кривой просил не забыть по пути у Перьяславля-Рязанского зайти к его матери и сказать ей, что он жив и здрав, живет в казаках и в недолгое время сам соберется выручить мать и сестру из дворянской неволи.
За Перьяславлем Стенька свернул с дороги в глухое село.
Пошатнувшись набок, стояла приземистая избушка с окошком, забитым двумя досками. Сережкина мать умерла, а сестренка жила по сиротству, переходя от соседа к соседу.
Прокопченная изба, где она ютилась в те дни, была полна дыму и едва освещалась узким, низким оконцем, затянутым пузырем. Трое ребятишек хлебали ячменное варево из глиняной черепушки. Хозяйка со злостью трясла ногой зыбку, подвешенную к потолку. В зыбке надрывался ревом четвертый младенец. В кутке топталось пять-шесть овечек, а под скамьей похрюкивал поросенок.
Читать дальше