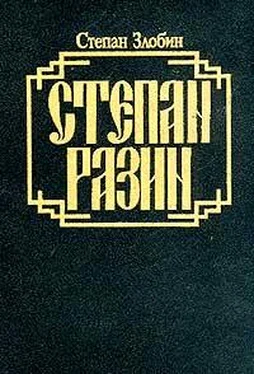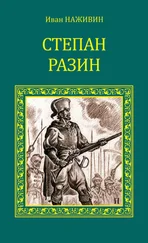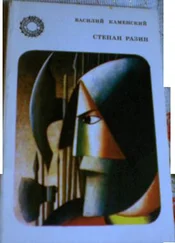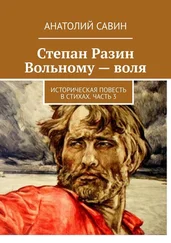С полутора сотнями казаков Наумов решился бы брать приступом город, если бы не забота о сбереженье раненого атамана.
— В Астрахани, может, вот так же! — сказал Прокоп, когда они двинулись дальше, оставив Саратов. — А Дон-то, Наумыч, уж Дон! Тихий Дон — родной дом, а тут, глянь, стрельцы да посадские — не казаки.
Наумов смолчал, но его встревожила эта мысль: а ну, если в самом деле сойдут они на низовья — и Астрахань встретит их такой же недружбой… Идти тогда верст семьсот в верховья с раненым батькою, да еще на челне, не дай бог — ледостав, и Волга замерзнет… Тогда везти его на санях по степям…
Камышин они миновали, не заходя. В царицынские ворота впустили их после долгих расспросов. Наумов рассказывал здесь, что всюду у Разина победы и одоления, что города им приходят в покорность, что из-под самой Москвы к ним идут ходоки, а уезды везде восстают при их приближении. Он говорил и ждал, что вот-вот царицынские осадят его и раскроют его враки. Но царицынский атаман сказал, что на Дон, еще нет тому суток, промчались гонцы с вестями о взятии разинскими атаманами Козьмодемьянска, Темникова, Нижнего Ломова, Пензы, о восстаниях в Мурашкине, в Павлове, в Кадоме и о сборах под Нижний Новгород…
Известия о победах взволновали Наумова еще больше.
— Чего же мы с тобой натворили, Прокоп?! Не будет прощения нам от Степана!.. Куды от войска?! Куды ж мы его увезли? Ведь повсюду победы!.. Народ воевод побивает, а мы… убежали!..
— Брось, Наумыч! Убит — то беда, а убежал — воротиться можно!.. Свезем атамана к его казачке, да сами и в сечу… Степан Тимофеевич сказывал: зимовать в Казани. Он и сам возвернется туда… с новым войском, — успокаивал Наумова Прокоп Горюнов.
— Стало, на Дон… Очнулся бы батька на миг. Сказать бы ему, что такие победы, — от радости он оживел бы. Крикнуть, что ли, ему?
Наумов припал к самому уху Степана.
— Батька! Батька! Победа! Пенза взята! Кадом взят! Мурашкино, Темники, батька! — кричал Наумов.
Но Разин лежал без сознания. Только жилка на лбу его билась робким, едва заметным биением. Не дрогнули даже веки.
— Довезем ли живого, Прокоп? — всполохнулся Наумов. — Вишь, и радость его не может взбудить… Неужто помрет?..
— А слышь-ко, Наумыч, не мешкай ты тут. В Черкасске есть лекарь добрый, Мироха Черкашенин. Я поскачу за ним, привезу его в Кагальницкий город, и ты с атаманом как раз прибудешь. А я полечу, как стрела… Пока жив, отходить человека можно, а мертвых назад ворочать — один лекарь был, да распяли его окаянные нехристи в злобе, — сказал Горюнов.
— Скачи, — согласился Наумов.
Долететь скорей до Корнилы, собрать незаметно станицу и грянуть наперерез из засады… Только бы весть не дошла прежде времени в Кагальник. Прокопу представилось, как сотни три понизовских казаков идут за ним, как нападают они из засады, вяжут Наумова и забирают Степана и как он, Прокоп, въезжает в Москву верхом на коне, разодетый, как вся донская старшина, в кармазинный алый кафтан и в шелковистой косматой папахе с золотым галуном на донце…
— Я поеду, Наумыч! — внезапно возвысил голос молчаливый все эти дни Никита Петух. — Прокоп пусть с тобой остается. Вдруг падучка его прихватит в степи: сам загинет и лекаря не привезет! А я доскачу как вихорь!..
Никита сказал это с таким жаром, что Прокоп растерялся. Он в удивлении взглянул на Никиту, который смотрел с вызовом прямо ему в глаза.
«Так вот оно что! — решил Прокоп. Он наконец-то понял Никиту. — Он хочет живьем захватить их обоих да выдать черкасской старшине… На Волге дворянам отдать убоялся, а тут — казакам. Чести больше: хоть молод, а мыслит о войске!..
Сказать ему, чтоб он перво из первых к Корнею спешил, али сам сдогадается, что ли?!»
— Ну что же, Никита, лети, добывай Митроху, — согласился Наумов.
И Никита помчался в Черкасск.
Не говоря ничего Прокопу, он был уже убежден, что Прокоп враг Разина, — иначе ему незачем было подсказывать Никите, что Марья и есть атаманова полюбовница!
Если Прокоп поскачет в Черкасск, то и быть беде: не за лекарем он поедет, он сам приведет старшинских, чтобы сгубить атамана, — так размышлял Никита, когда предложил поехать вместо Прокопа.
«А мне-то к чему голову атамана спасать! За какие ко мне его милости? — спрашивал Никита себя. — А за ту его милость, что он для всего народа себя не жалеет — не об себе печется, о мире. За то его и жалеть!..»
Никита гнал от себя черную мысль о том, что Степан у него отнял Марью, но сами собою лезли в голову думы, что не зря велел Разин ему оставаться в Астрахани: «Знал, окаянный, что венчана Машка со мною. Мне велел на глаза не пасть, а Машку с собой заманил!..»
Читать дальше