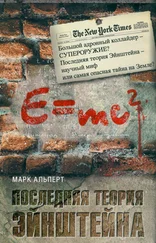Вот то место, где он пишет о болезни. Только один раз за все годы.
«Ты спрашиваешь, все ли в порядке. Все в порядке, но я — нет. Лежу с анемией и жду смерти как облегчения. Я жду своего конца как неизбежного естественного явления. Пора покидать сей странный мир. Тебя огорчат эти слова, но для тех из нас, кто верит в науку, линия раздела между прошлым, настоящим и будущим — это только иллюзия, какой бы стойкой она ни была. Однажды мы говорили с тобой о существовании иных миров. Помнишь, я тебе рассказывал, что ввожу в свою теорию новый член. Это космогонический член, и он является (равен) энергии вакуума, потому что пустоты нет. Я это чувствую, и я уверен, что мы встретимся с тобой, ведь все-таки моя теория подтвердилась, а введением космогонического члена я просто расширяю ее. Кстати, когда я почувствую, что конец совсем близок, я уничтожу архив и мои последние изыскания. Человечество без этих теорий будет чувствовать себя лучше».
Дальше он писал о том, что пытался воплотить принцип Маха, и о том, что Эрнст Мах был великим ученым, а она вспомнила, с каким сарказмом произносил это имя лектор в том злосчастном вечернем университете марксизма, куда ее занесло сдуру от чрезмерной жажды деятельности.
Мне тоже пора сжечь его письма, ведь скоро и я покину этот странный мир. Скоро придет Олимпиада и начнет орать, требовать, чтобы ела. Она боится моей смерти, ведь нужно будет искать другую работу, а кто ее возьмет, с ее характером, да и годы уже не те. Кажется, ей уже за семьдесят, кому нужна злая старуха.
Но пока не пришла, можно думать о встрече с Генрихом и Деткой в ином мире. Детка тоже верил во встречу.
Может, там все наоборот, Генрих что-то говорил о том, что прошлое и будущее поменяются местами и тогда она будет женой Генриха, а Детка станет любимым и любящим дружочком. И она встретит папочку и маму и пройдет по зимней заснеженной Троицкой к собору, и прикоснется щекой к теплому песку, усыпанному хвоей, в Пьяном бору, и увидит темные синие дали за Камой, и вместе с Генрихом будет гулять в лугах возле маленького городка Аарау, а потом они поедут в Америку на огромном пароходе, и она снова увидит залитые утренним розовым светом небоскребы Манхэттена, и вечером они пойдут в «Бревурт», где всегда людно и всегда полно знакомых, и она даже разрешит ему пойти в тот ужасный ночной клуб в Гарлеме, куда он так рвался… Ведь он обещал, что они встретятся, пусть даже на изнанке времени и пространства…
Он выполнил обещание.
Иногда он приходил, чтобы повидать ее. В самое неожиданное время, в неожиданном месте.
Один раз это случилось в середине шестидесятых в Карловых Варах. Этих поездок ждали целый год. Сладкая заграничная жизнь.
Получены характеристики из парткома (ее — из домоуправления), пройдены собеседования в райкоме, к которым готовились, как школьники: государственное устройство, имя секретаря ЦК, валовая промышленность, особенности сельского хозяйства, Северо-Атлантический пакт, страны Варшавского договора….
Вся эта чепуха забывалась, и каждый год приходилось учить снова.
Но тупая зубрежка искупалась вот чем.
Сначала вагон СВ на Киевском вокзале. Надраенные латунные поручни, вежливые проводники, белоснежное белье и какой-то особый вкус еды в вагоне-ресторане. По рюмке душистого коньяка за обедом, а за окном просторы заброшенной родины.
Из-за окна всегда случался маленький скандал перед отправлением. Детка очень любил глядеть в окно и требовал чистоты стекла. Для этого в проводах обязательно участвовали домработницы: сначала Маша, потом Олимпиада.
Пока располагались в купе, домработница специальной щеткой на палке мыла окно снаружи. Это почему-то очень не нравилось проводникам. Они воспринимали процедуру как личную обиду. Отказывались дать воду, громко протестовали. Но Деткин внушительный вид и ее: «Дорогуша, мой муж художник, он нуждается во впечатлениях», а также, как щетка на длинной ручке и ведерко, специально припасенный конверт оказывал нужное впечатление, и проводники, угрюмо ворча, успокаивались и допускали домыть окно.
По мере продвижения на Запад видимость ухудшалась, и уже сам проводник на остановке в каком-нибудь Хмельницком или Нежине не чурался шваброй освежить стекло.
Селились обычно в «Бристоле», и она по утрам, спускаясь по Садовой к источнику, любовалась чудными домами и цветущим боярышником. Все это хоть немного напоминало Кингстон.
Но в тот год не повезло. Путевки были только на ноябрь, и они, чтобы не терять, может, единственную в году возможность побывать заграницей и попить из целебных источников, согласились.
Читать дальше