По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал маму о ее родне, а она помалкивала — десятилетия социального изгойства приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и беспомощных женщин — вдовы-попадьи, вдовы-поповны и девочки Иры: хамские коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и проч. Так что с материнской стороны — белое пятно. Лежат у меня в картонной коробке из-под допотопных конфет несколько поздравительных — с Пасхой и Рождеством — открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и подписями; осталось несколько фотографий больших священнических семейств, расположившихся на лавочках вокруг родоначальников-батюшек перед деревянными одно— и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках, спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов — Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан имел какое-то отношение, но я — последний, в ком эта тусклая полупамять еще как-то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед приходом немцев архивы уничтожались.
Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение нашего круга к нынешней власти. В конце 80-х — начале 90-х мы приветствовали новые веяния сверху — сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с государством ничего общего. Но тем не менее я вступаюсь за энтузиастические 90-е, когда кто-нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский нигилизм и дед (отец куда в меньшей мере). Но родственники-то с материнской стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили как бы вне истории — просто попали под раздачу. Да еще как попали!
Так что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону — русским, я жил и воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурацкое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родительская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам) я — было мне лет десять — спросил отца, почему у всех интеллигентов волосатая грудь. (А то, что мы интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца мой вопрос озадачил. Но из этой, детской и фантастической, причинноследственной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с семитски обильной растительностью, я тогда не встречал. Впрочем, и семья, и родительские друзья-знакомые были людьми вполне — и сознательно — ассимилированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему считались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.
* * *
Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой… притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормошат, по-домашнему зовут Ёжиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает. И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвращаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправдами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения, неожиданно закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище Нездоровица; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персонал. «Нездоровица, куда лопатку подевал?»
Но вообще всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством нередко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.
Не то у меня. Почти еженощно, лежа на спине в считаные секунды отхода ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую-нибудь малость полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побежку Рагдая — немецкой овчарки из углового подъезда… (Иметь собаку было idee fixe. Я даже вставал на час раньше, чтобы до школы — зимой! в утренней темноте! — побродить хвостом за каким-нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса. Заодно влюблялся и во владельца.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
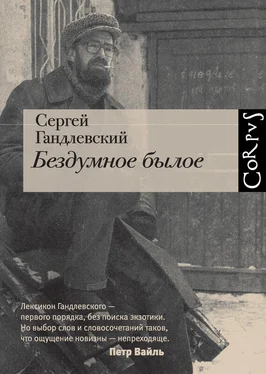









![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)

