А после, когда «алгебра идей» принята к сведению, наступает пора «арифметики», «частного», наблюдений и подробностей — природы, социальных повадок человека, любви, семейных хитросплетений, старения; пора отношения к иным проявлениям своей и чужой сложности как к распущенности; время чувств, а не страстей… И в один прекрасный день твоя рука, как бы сама собой, минуя Достоевского, снимает с полки Толстого.
Страстью к Достоевскому я во многом обязан знакомством и двадцатипятилетней дружбой с Александром Сопровским. Мы виделись с ним мельком на «сачке» — под спиралевидной лестницей на первом этаже нового гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Там, на батареях и около, курили и рисовались кто во что горазд нерадивые студенты. И как-то вскользь мы с Сопровским обмолвились заветными цитатами из «Легенды о Великом инквизиторе», и нас дернуло электричеством духовной близости. В школе я не знал дружбы — мне вроде бы хватало и приятельства. Я человек общительный, но закрытый и непростодушный. А Саша, наоборот, был очень открытым и простодушным, но букой. И он тотчас взял меня в такой дружеский оборот, что я поначалу опешил. Мало того что я впервые столкнулся с таким напором, я впервые почувствовал, каково это — быть другом человека, по-настоящему самобытного, от природы наделенного даром свободы. Он часто поражал, иногда раздражал и всегда выматывал меня. Лучше всех, по-моему, сказал о Сопровском сорок лет спустя Михаил Айзенберг: «Этот мешковатый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой-то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе „вольно“, но с такой строгостью, что вышло строже любого „смирно“». Под обаянием личности Сопровского мои представления о мире если не зашатались, то расшатались. («Мои» — сильно сказано; своими я толком и не успел обзавестись, а Саша успел.) Но главным и для него и для меня было, что он писал стихи; и школьный товарищ его Александр Казинцев — тоже, и их приятель Давид Осман — тоже. Так я, еще только мечтавший о писательстве, сошелся с людьми, уже считающими себя поэтами, и начал «торчать по мнению». (Эту идиому я узнал от Петра Вайля. Она означает — самому не пить, но хмелеть за компанию.) Заодно с ними я стал время от времени посещать университетскую литературную студию «Луч», возглавляемую и по сей день Игорем Волгиным. Прочел там свой — единственный! — рассказец, над которым аудитория позабавилась всласть. Я много нервничал, что у меня нет таланта, старался скрыть от одаренных друзей свои опасения, от чего нервничал еще больше, и в разгар нервотрепки и мук уязвленного самолюбия влюбился без памяти, и, в числе прочего, забыл, что не умею рифмовать, и написал первое стихотворение — ночью 22 июня 1970 года.
(Наверное, это одно из самых приятных чувств, доступных человеку, — превзойти свои же представления о собственных возможностях. И внезапно понять, что в действительности означает слово «плавание», когда вдруг оказывается, что вода держит тебя на плаву!)
«Теперь это от тебя не отвяжется», — пообещал мне Сопровский и оказался прав: в течение нескольких лет я писал в среднем стихотворение в неделю. И теперь не только я, представляя кому-нибудь моих друзей, говорил «такой-то, поэт», но и они величали меня этим неприличным до смущения словом.
От восторга перед новыми горизонтами голова моя пошла кругом, я как с цепи сорвался. Родители считали (и у них были на то веские основания), что меня будто подменили. В первую очередь их многолетние терзания сильно омрачают мою память. Оба давно умерли. Отец делается мне с годами все ближе и дороже — по мере того как я становлюсь таким же, как он, тяжеловесом, во всех значениях. А штамп «мать — это святое» представляется мне непреложной истиной.
В 1971–1972 годы дружеский круг определился окончательно: мы с Сопровским и Казинцевым сошлись с двумя звездами университетской студии — Бахытом Кенжеевым, вылитым восточным принцем, человеком большого таланта и добродушия, и с Алексеем Цветковым, байронически хромающим красавцем с репутацией гения. Цветков и Кенжеев с полным правом, во всяком случае по отношению ко мне, вели себя как мэтры. И здесь — одно из главных везений моей (тьфу-тьфу-тьфу) везучей жизни. С одной стороны, превосходящими силами четырех друзей мне был навязан очень высокий темп ученичества, а с другой — возрастной расклад (два «старика» на трех «юнцов») осложнял психологическую «дедовщину»: хотя бы количественный перевес молодняку был гарантирован. Я это к тому, что когда молодой новичок вступает в сложившийся круг старших, это сперва способно польстить самолюбию, но по прошествии времени у него могут сдать нервы: годы идут, а он все, по собственному ощущению, в подмастерьях. Я знал примеры таких срывов. Не исключаю, что предсмертные вздорные годы превосходного поэта Дениса Новикова объясняются чем-то подобным, хотя никто из старших друзей-поэтов его за мальчика не держал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
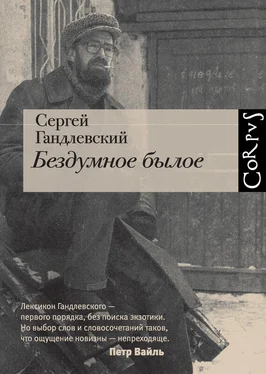









![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)

