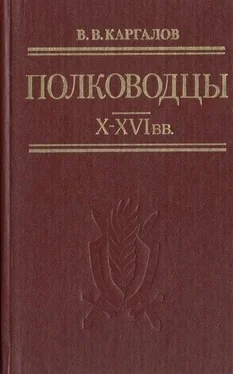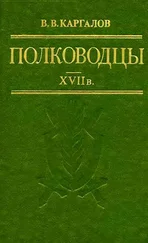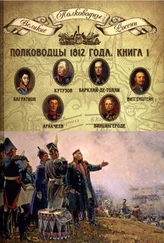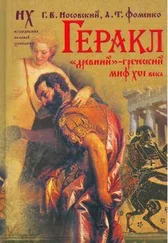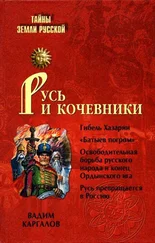Назначение опытного воеводы Дмитрия Хворостинина руководителем обороны «крымской украины» было очень своевременным. Крымцы резко активизировали военное давление на русские рубежи. В 1585 году татары напали на Рязанщину, однако Дмитрий Хворостинин вовремя сумел выдвинуть войска к Шацку и вынудил их к отступлению. В 1586 году крымцы и ногайцы предприняли совместное выступление, в котором только татар насчитывалось до тридцати тысяч. И снова неудача: из Коломны выступил навстречу передовой полк и разгромил ордынцев…
1587 год. В пограничные области России вторглось до сорока тысяч ордынцев. Но сторожи в Диком Поле своевременно известили об опасности. Воевода Дмитрий Хворостинин успел подойти с полками к «берегу», а затем переправиться через реку и сосредоточиться неподалеку от Тулы. Ордынцы пограбили окрестности, но на «прямой бой» с сильным русским войском не решились и отступили.
Неспокойно было и на западных рубежах. После смерти Ивана Грозного король Стефан Баторий отказался подтвердить перемирие и начал готовить новую войну с Россией. В Можайске уже собирались русские войска для отражения нашествия, но в 1586 году король умер. Внутренние распри в Речи Посполитой помешали войне.
Неурегулированными оставались и отношения со Швецией. В 1586 году «по свейским вестям» стало собираться русское войско в Новгороде, но прибытие шведского посольства остановило поход. В 1587 году снова было решено послать полки на шведского короля. В Новгород отозван с юга боярин князь Дмитрий Иванович Хворостинин, и вновь поход не состоялся. Но война явно надвигалась. Россия не могла смириться с тем, что шведы закрыли выход к Балтийскому морю. Для воеводы Дмитрия Ивановича Хворостинина приближалась главная в его жизни война.
В 1589 году шведский король Юхан III послал свой флот в Ревель. На берег высадилась десятитысячная шведская армия, которая значительно подкрепила шведские гарнизоны в крепостях Ливонии. Но Юхан III надеялся не только на свои силы: королем Речи Посполитой стал его сын Сигизмунд III. Они выступили с далеко идущей политической программой: заставить Россию уступить Швеции и Речи Посполитой города Новгород, Псков и Смоленск, «Северскую землю». Фактически речь шла об утрате всего, чего Россия ценой огромных усилий добилась в течение XVI столетия. Король Сигизмунд III даже вынес на обсуждение польского сейма вопрос о войне с Россией. Военная демонстрация была достаточно внушительной, и короли надеялись, что Россию можно будет заставить выполнить их требования даже без большой войны. Для этого Юхан III потребовал, чтобы русское правительство послало для переговоров к реке Нарове (Нарве) «великих послов».
Но пока шел обмен грамотами, определялось, где и когда встретятся посольства, общая ситуация изменилась. Королю Сигизмунду III не удалось поднять польско-литовскую шляхту на войну с Россией, родственные симпатии двух королей не сумели преодолеть традиционного соперничества Речи Посполитой и Швеции из-за Ливонии. Король Юхан III остался один. Русские послы не только не согласились уступить шведскому королю, но выдвинули свои, встречные требования. Царский «наказ» гласил: «Говорить с послами по большим, высоким мерам, а последняя мера: в государеву сторону Нарву, Ивангород, Яму, Копорье». Шведские послы уже готовы были отказаться от своих первоначальных претензий и заключить мир – перспектива в одиночку воевать против России вовсе не устраивала Юхана III. Но русские послы проявили твердость, заявив: «Государю нашему, не отыскав своей отчины, городов Ливонской и Новгородской земли, с вашим государем для чего мириться? Теперь уже вашему государю пригоже отдавать нам все города, да и за подъем (за военные расходы) государю нашему заплатить, что он укажет!».
Такого оборота дела король Юхан III явно не ожидал. На прямое обращение царя Федора Ивановича он ответил высокомерным отказом: «Пришла к нам твоя грамота, написанная неподобно и гордо; мы на нее не хотим больше отвечать, а полагаемся на волю божию. Хочешь у нас земель и городов – так попытайся отнять их воинскою силою, а гордостию и спесивыми грамотами не возьмешь». Война стала неизбежной.
Вопрос о Ивангороде, Яме и Копорье имел свою историю. Эти исконно русские города, новгородские крепости на северо-восточных рубежах, захваченные Швецией после Ливонской войны, не только составляли важнейшие звенья обороны Новгородской земли, но и открывали доступ к Финскому заливу, поэтому их огромное стратегическое значение для России было неоспоримо.
Читать дальше