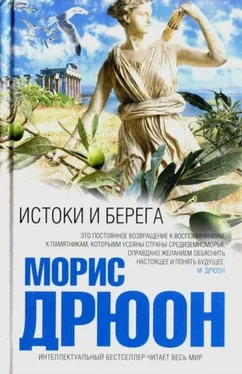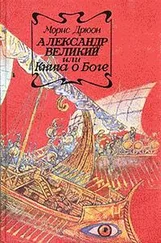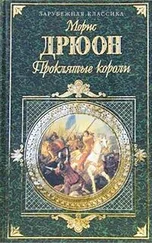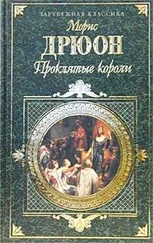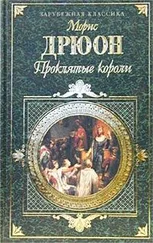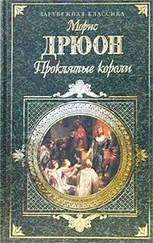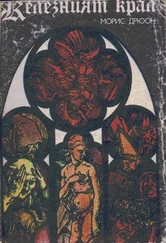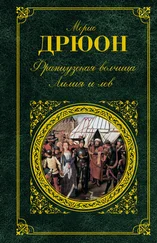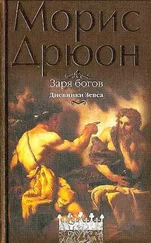Чтобы доказать или проявить свои качества, человеку стоиков не надо принадлежать к какому-либо закрытому сообществу, нации, классу или касте; он — частное выражение универсализма.
Так что эта философия должна была прекрасно подойти Римской империи, многонациональному сообществу людей, стремящемуся к идеалу всеобщей законности и мира и в то же время строго структурированному и иерархизированному, начиная с самого императора, высшему проявлению человеческого порядка. Что не означает, что римляне времен империи жили всегда и только в соответствии со стоической моралью, вовсе нет! Однако на протяжении нескольких столетий она служила им эталоном поведения.
В эту эпоху, которую по некоторым параметрам можно рассматривать как апогей истории человечества, все великие примеры для подражания — Плутарх, Цицерон, Сенека, Эпиктет — были стоиками. Все римляне, в том числе и самые высокопоставленные, вскрывшие себе вены или выпившие яд, чтобы не дожидаться неизбежной кары или немилости, были стоиками и последователями Зенона, который, как говорят, предпочел умереть, отказываясь от пищи, утверждая, что его смерть соответствует порядку вещей. Надо, правда, сказать, что было ему тогда девяносто восемь лет! Его школу называли «матерью неустрашимой свободы».
По крайней мере один раз стоическое совершенство будет воплощено в самой прекрасной и возвышенной форме на самой высшей ступени римского мира в липе императора-философа Марка Аврелия.
Однако киприот Зенон Китайский не только дал римской цивилизации философское обрамление. Он сделал гораздо больше: он приуготовил наступление христианского миропорядка.
Самим универсальным характером своего учения, предложением стремиться к идеалу совершенства, призывом к признанию высшей воли некоего создателя и устроителя Вселенной, Зенон предрасположил средиземноморский мир к приятию идеи единобожия. «Кесарю кесарево» — это мог произнести и стоик. Гимн Зевсу, написанный Клеанфом, первым последователем Зенона, — это тот же «Отче наш, иже еси на небесех». И понятие свободы выбора неявно присутствует во всей этой философии.
Евангельская проповедь не смогла бы столь широко распространиться в античном мире, если бы путь ей не проторил стоицизм.
На заре христианства Кипр облагодетельствовал Историю еще одним замечательным вкладом, еще раз выступив в роли перевалочного пункта на пути цивилизаций.
Один из первых распространителей нового вероучения, неразлучный спутник апостола Павла, Варнава был родом с Кипра. И очень может быть, что сохраненные им на родине связи стали причиной того, что совет Антиохийской церкви выбрал Кипр целью первого миссионерского похода апостолов в языческие страны. Потому что до сих пор, в годы, непосредственно последовавшие за смертью Христа, пополнение рядов христиан осуществлялось исключительно за счет иудейских общин. В ту пору христианство носило еще, если можно так выразиться, узко национальный характер.
Правда, приключение, описанное в Деяниях апостолов, случилось с этими двумя путешественниками не на Кипре, а в Листре, в Малой Азии. Павел и Варнава пришли в город, и Павел стал проповедовать там с таким пылом, искусством и красноречием, а потом еще и исцелил больного, что восторженная толпа признала в апостолах Зевса и Гермеса, спустившихся с небес на землю, и стала звать в храм, чтобы совершить жертвоприношение в их честь. После чего, поскольку они сопротивлялись, пытаясь обратить присутствующих от идолов «ложных к Богу Живому», та же толпа прогнала их, швыряя в них камнями [42] В данном пересказе есть неточности и искажения смысла. См. Деяния апостолов, 14, 8—19.
.
Я вспомнил эту историю, потому что она позволяет нам довольно хорошо представить себе этих вдохновенных странников, такими, какими они высадились в Саламине: Варнава, высокий, спокойный, величественный, с пышной бородой — так похожий на изображения Зевса, и Павел, сухопарый, подвижный, нервный, проницательный, неутомимый оратор, мастер убеждения, полностью соответствующий представлениям древних о Гермесе.
Однако гораздо более важное событие произошло на Кипре. Именно там Павлу, которого в ту пору звали еще Савлом, удалось обратить первого язычника. И какого язычника! Самого римского проконсула Сергия Павла. Это обращение имело для апостола такое значение, он увидел в нем такой глубокий смысл, что решил оставить свое имя и взять новое — имя обращенного им высокопоставленного римского чиновника. Так Савл из Тарса, бывший мытарь, становится до скончания времен Павлом [43] Автор пугает здесь двух апостолов. Мытарем, то есть представителем всеми презираемой профессии, был до обращения Матфей. Павел же (или Савл) происходил из уважаемой семьи, отец его был фарисеем, и сам он был воспитан в традициях фарисейского благочестия. Кроме того, в Деяниях апостолов, где рассказывается история обращения в христианскую веру проконсула Сергия Павла (Деян., 13,4-12), ни слова не говорится о причине принятия апостолом имени Павел: он просто называется этим именем наравне с Савлом.
. Если свой истинный путь святой Павел обрел в Дамаске, то на Кипре он обрел имя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу