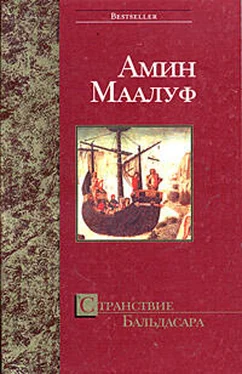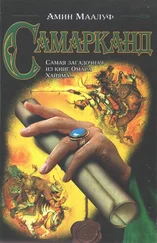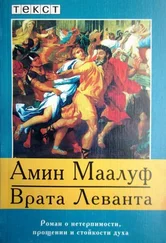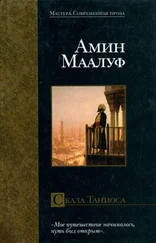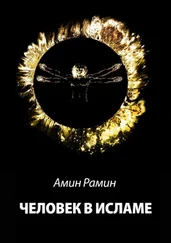В Генуе, 4 апреля.
Я готовлюсь возобновить нить своего повествования, сидя на террасе в доме друга, вдыхая весенний воздух, ловя доносящиеся до меня сладкие звуки города: этот медовый язык, язык моей крови. И однако я плачу посреди этого рая, вспоминая о той, что осталась там — пленницей, прикованной своей беременностью, виновной лишь в том, что пожелала стать свободной и любить меня.
В действительности я осознал свою участь, только оказавшись на корабле. Меня положили на дно трюма, и капитан получил приказ не снимать повязку с моих глаз, пока побережье Хиоса не исчезнет с горизонта; приказ, который он старательно исполнил. Или почти исполнил, — когда он вывел меня на палубу, еще можно было угадать горные вершины; моряки даже указали мне на силуэт замка. Во всяком случае, мы были уже очень далеко от Катаррактиса и плыли на закат 40.
Способ, к которому прибегли власти, чтобы выдворить меня с острова, странным образом «завоевал» мне доверие капитана, калабрийца лет шестидесяти с длинными седыми волосами; его звали Доменико, и он был худ, как бездомная собака, все время ругался и божился — «Клянусь предками!», одновременно грозя матросам повесить их или бросить на корм рыбам, но он привязался ко мне настолько, что даже рассказал о своем грабительском промысле.
Его корабль, бригантина, назывался «Харибдой». Он бросил якорь в Катаррактисе, бухту которого изредка посещают только лодки рыбаков, лишь потому, что связался с одним из самых прибыльных видов контрабанды. Я сразу же понял, что тут дело в мастиксе, смоле мастикового дерева; ее нет нигде в мире, кроме Хиоса, и турецкие власти приберегают ее исключительно для себя: используют в гареме султана, где у благородных женщин вошло в моду жевать эту смолу с утра до вечера, чтобы зубы их становились белыми, а дыхание — благоуханным. Крестьяне острова, выращивающие это драгоценное растение, которое называют мастиковым деревом и которое удивительно похоже на фисташковое дерево из Алеппо, обязаны продавать мастике властям по установленной ими цене; те же, у кого имеется излишек, стараются продать его к собственной выгоде, что может стоить им долгих лет тюрьмы, галер и даже смерти. Но, несмотря на грозящее наказание, жажда наживы преодолевает все, и тогда люди начинают заниматься контрабандой, в которой часто замешаны сами досмотрщики и другие представители закона.
Капитан Доменико хвастался передо мной, что он самый ловкий и дерзкий из контрабандистов. Последние десять лет, клялся он мне, не менее тридцати раз заходил он к берегам этого острова за запрещенным товаром и никогда не попадался. Он признался мне в том, что янычары выгодно пользуются его щедростью, что нимало не удивило меня, уж я-то знал, как я оказался на этом корабле.
Для калабрийца бросать вызов султану у него под носом, в его собственной империи, и вырывать из его рук подарки, предназначавшиеся фавориткам, было не просто верным куском хлеба, а некой отважной лихостью, почти священнодействием. За время наших долгих ночных бесед в открытом море он подробно поведал мне о каждом из своих приключений, особенно о тех, когда он чуть не попался: над ними он смеялся громче, чем над всеми прочими, и пил большими глотками водку, вспоминая, какого страху тогда натерпелся. Его обыкновение пить меня веселило. Он прижимал губы к горлышку кожаной фляги, которую всегда держал под рукой, поднимал ее вверх и долго стоял, высоко запрокинув голову, словно держал гобой и готовился извлечь из него мелодию.
Иногда, говоря о тысячах хитростей, к которым прибегают крестьяне, чтобы увильнуть от турецких законов, капитан узнавал что-нибудь и от меня. В другой раз он не мог узнать от меня ничего нового. Не помню, говорил ли я уже, что наша семья до того, как вернуться в Джибле, сначала устроилась на Хиосе и, конечно, занималась торговлей мастиксом. Все это закончилось во времена моего прапрадеда, но воспоминания остались. Эмбриаччи ничего не забывают и никогда ни от чего не отказываются: опыт войны и торговли, славные дни и дни несчастий, все они наслаиваются друг на друга в череде их жизней, как кольца могучего дуба, листья которого опадают осенью, а ветви иногда ломаются, но от этого дуб не перестает быть дубом. Мой дед рассказывал мне о мастиксе, так же как он говорил о Крестовых походах, он объяснял, как собирать драгоценные слезы, надрезая кору мастикового дерева, повторяя специально для меня, никогда не видевшего этого дерева, жесты, которым он научился от своего деда.
Читать дальше