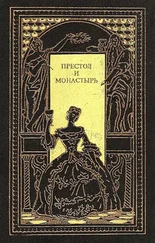Тётка и племянник танцевали естественно, с изумительно привлекательной грацией, хотя, отдавшись оживлённому разговору, по-видимому, нисколько не заботились о выделывании па.
— Отчего, государь, Наташи нет? — спрашивала тётка.
— Вчера и сегодня я её не видал; Андрей Иванович говорит, будто больна, да я думаю, совсем не от болезни.
— А отчего же?
— Ревнует, Лиза, к тебе.
— Ко мне? — удивилась тётка. — С какой стати? Ты так её любишь!
— Люблю её, а тебя больше, много больше… Тебя очень, очень люблю… Как никогда не любил и никогда не буду.
— Полно, Петруша, ты молод очень, не понимаешь ещё, что такое любовь, — с улыбкой, но наставительно заметила цесаревна.
— Что ты, Лиза, меня всё коришь, молод да молод… Не ребёнок я и понимаю, всё понимаю, — с грустью и слезами в голосе порывисто шептал государь.
— Что же ты понимаешь, Петя?
— А то, что ты меня никогда не любила и не любишь.
— Вот и совсем неправда… Хочешь, докажу тебе?
— Докажи, Лиза, — умолял племянник.
Цесаревна приняла серьёзный вид и с комической важностью стала декламировать слова, написанные государем сестре своей на другой день после восшествия своего на престол, а потом, через несколько недель, высказанные им лично в заседании Верховного тайного совета:
— «Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобресть славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желаю оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих; выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и, по примеру римского императора Веспасиана, никого не отпускать от себя с печальным лицом».
— Видишь, как люблю тебя, выучила наизусть… Какие хорошие мысли у тебя, Петруша!
— Не мой они, Лиза, Андрей Иванович написал и дал мне выучить, — уныло сознался государь, но потом быстро добавил: — Но не думай, Лиза, я и сам могу написать не хуже.
— Верю, государь, твои воспитатели с отменной похвалой отзываются о твоих способностях; все говорят, что ты развит не по летам.
— Опять, Лиза, про годы, — упрекнул племянник.
— Что же делать, Петруша, не виновата же я, что родилась твоей тёткой и за столько лет прежде тебя.
— А я не хочу иметь тебя тёткой!
— А кем же, Петруша?
— Моею женой, — решительно высказал государь.
Лицо цесаревны сделалось серьёзно, как будто какое-то облачко, не то нерешительности, не то сожаления, пробежало по нему; но это мелькнуло моментально, и тотчас же, с прежней ласковой улыбкой, она обратилась к своему влюблённому кавалеру:
— Какой ты упрямец, Петруша, сколько раз я тебя просила не говорить мне об этом… Я тебя люблю как племянника, как брата, как дорогого друга, но не могу любить как мужа… Вспомни, что тебе только двенадцать лет, а мне за двадцать, чуть не старуха! Какая же пара! Посмотри, сколько хорошеньких молоденьких девушек! — уговаривала цесаревна, указывая на танцующих дам.
— Мне никого не нужно, кроме тебя! — упрямо настаивал племянник. — А я знаю, Лиза, почему ты не хочешь быть моей женой.
— Отчего же, по-твоему, государь?
— Ты любишь кого-нибудь, и я подозреваю кого…
— Ну, говори, а я сама не знаю.
— Бутурлина Александра Борисовича. Вчера я застал его у тебя… Ты была так ласкова, так счастлива.
От неожиданности замечания и от пытливого взгляда ребёнка-государя цесаревна смутилась, немного покраснела, но до того немного, что это укрылось даже от ревнивого взгляда влюблённого.
— Александр Борисович хороший человек, такой добрый, весёлый, с ним приятно иной раз поговорить, но я его не люблю, да и никого не люблю, — серьёзно оправдывалась тётка.
— Спасибо за это, Лиза. Так решительно никого не любишь?
— Никого.
— И если за меня не пойдёшь, так и за другого ни за кого не выйдешь никогда? Обещай мне это!
— Охотно, Петруша. Я и сама хотела просить тебя запретить Андрею Ивановичу заниматься моей судьбой и сватать за кого бы то ни было. Ни за кого не пойду. Просватана была раз, полюбила жениха… умер… значит, не судил Господь мне счастья!
Во второй паре, по желанию государя, требовавшего всегда подле себя присутствия любимца, танцевал Иван Алексеевич Долгоруков с Натальей Борисовной Шереметевой. Молодой человек увидел свою даму на этом балу первый раз, и какое-то новое, ещё никогда не испытанное им чувство произвёл на него этот только распускающийся цветок. Ему, известному сердцееду, менявшему любовниц едва ли не чаще своего белья, бесстыдному в клятвах и обольщениях, вдруг стало неловко, как будто стыдно, встречать эти тихие глубокие глаза, в которых так ясно и полно отражалась вся чистота девственных чувств. Ни один из обычных приёмов ловеласничества теперь не приходил ему в голову; он не знает, как и о чём ему говорить, все прежние волокитства кажутся ему грязными и пошлыми.
Читать дальше