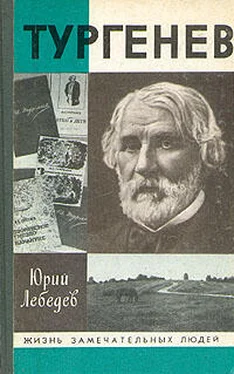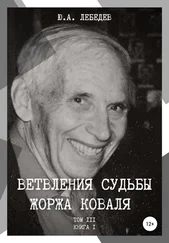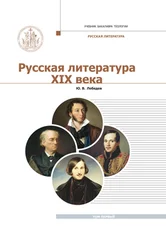В письме к сыну в Берлин она так рассказывала о том, с чего начинается каждое ее утро: «В гостиной отгорожен к одному углу кабинет, с зеленью, стол письменный стоит. Скоро пришлю тебе рисунок. Вот я беру Кантемира. Кантемиром называется деревянный porte-papier с ручкой. Итак, беру Кантемира, пишу вчерашнего дня журнал. А потом сажусь за приятное провождение времени — ближе всех в глазах моих твой портрет. — «Здравствуй, Ваня», — говорю я и потом принимаюсь писать письма к тебе или брату до 10-ти часов. Братин портрет налево. Параллельно ему налево портрет отцов. Прямо передо мной, на маленьком пюпитре, вид петербургской набережной и отъезжающий пароход Ижора . Провожающие машут платками, шляпами... Стоят экипажи... на балконах смотрят в лорнетки. Дымится уже, зазвенел третий звонок — и мать вскрикнула, упала на колени в карете перед окошком... Пароход повернулся и полетел как птица... Кучер по набережной погнал лошадей, но!.. недолго был виден пловец... Улетел, и все осиротело».
Из Кронштадта в Германию Тургенев плыл на пароходе «Св. Николай». Вместе с ним была жена Ф. И. Тютчева с детьми, известный поэт и государственный деятель князь П. А. Вяземский. Сбылись недобрые материнские предчувствия. В ночь на 19 мая, когда пароход находился близ Травемюндского рейда, Тургенев услышал в каюте отчаянный женский крик: «Горим, горим!» Когда он, наспех одевшись, выбежал на палубу, огонь уже выбрасывался наверх в нескольких местах. Началась страшная паника, которой поддался и юный Тургенев. Схватив за руку матроса, спускавшего на воду последнюю лодку, он обещал ему дать десять тысяч рублей от имени матери, если матрос спасет его. К счастью, вскоре прибыли шлюпки из Травемюндского рейда, пассажиры были спасены, хотя несколько человек погибло.
Когда на берегу Тургенев опомнился от страшного потрясения, он увидел полураздетую, босую Тютчеву с прижавшимися к ней детьми, насквозь промокшими под проливным дождем. Юноша накрыл ее своим сюртуком, отдал ей сапоги и заботливо опекал до тех пор, пока прибрежные немцы не развезли пострадавших на временные квартиры. Но несчастная женщина, спасшая во время пожара трех дочерей, все-таки сильно простудилась и через несколько месяцев скончалась.
Злые языки распространили о Тургеневе слух, что во время пожара он вел себя трусливо и недостойно, в страхе бегал по палубе и кричал: «Спасите меня, я единственный сын у матери!» Этот слух темным пятном преследовал его всю жизнь, пока Тургенев сам не передал историю случившегося с ним в рассказе «Пожар на море».
Можно себе представить, какое значение имело это событие для Тургенева, склонного к размышлениям о бренности существования, о силе слепых случайностей, по своему произволу распоряжающихся человеческой судьбой. Но он был тогда молод, и яркие впечатления от путешествия по незнакомой стране скоро заставили забыть о только что пережитом страхе смерти.
И вот он в Берлине! Он достиг, наконец, цели! Как сжалось сердце, когда он увидел этот немецкий город, на который возлагал все свои надежды. Наконец-то лицом к лицу он станет с «этими обольстителями души», немецкими мудрецами-философами, и потребует от них вразумительного ответа на волнующие его вопросы.
В Берлине Тургенева встретил Грановский. За время разлуки он очень изменился, повзрослел, и в его облике появилась какая-то внутренняя сдержанность и сосредоточенность. Уже не романтический восторженный блеск, а глубокая задумчивость сквозила в его темных глазах. Грановский сразу же предложил Тургеневу знакомство со своим другом Николаем Владимировичем Станкевичем, с которым он жил на одной квартире. «Не виршеплет ли он?» — спросил Тургенев. Грановский рассмеялся, и, когда они пришли на квартиру, представил ему Станкевича под именем «виршеплета».
Это был молодой человек высокого роста, с прекрасными черными волосами, покатым лбом и небольшими карими глазками, взгляд которых был искрист, ласков и весел. Особенно выделялись на его лице тонкие губы с резко очерченными углами: когда Станкевич улыбался, они слегка кривились и придавали лицу чуть-чуть насмешливое, но чрезвычайно приветливое и милое выражение. У Станкевича были большие, узловатые, как у старика, руки; но во всем существе его, в жестах, в движениях проявлялась какая-то грация — «точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении».
Философские диалоги, возникавшие постоянно между Станкевичем и Грановским, на первых порах озадачивали Тургенева: к великому смущению своему, он понял, что не в состоянии поддерживать эти разговоры на таком уровне, на каком их ведут его приятели.
Читать дальше