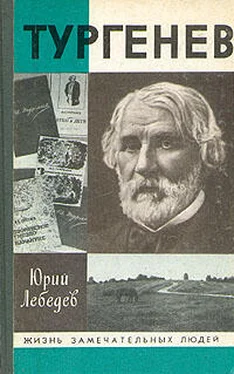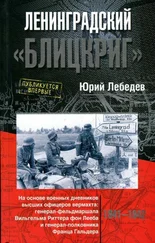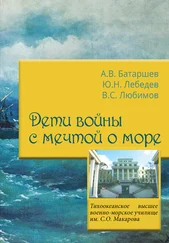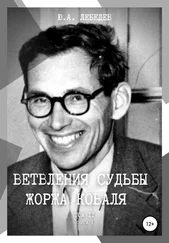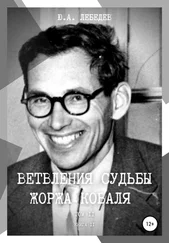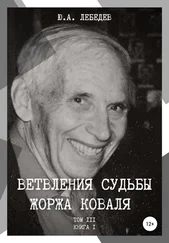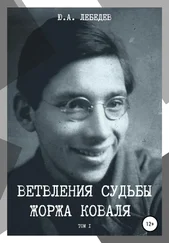Было возбуждено уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева», которое тянулось долгие годы, вплоть до отмены крепостного права.
Такой крутой поворот событий не на шутку испугал Варвару Петровну, и, поскольку сына она любила, она старалась с тех пор вести себя при нем сдержанно и не давать воли самодурским капризам. От своего решения продать Лушу она отказалась и заплатила Медведице крупную неустойку.
Но такие решительные поступки в жизни Ивана Сергеевича являлись исключением и напоминали собою жест отчаяния, а не твердое волевое решение. По характеру своему он оставался человеком мягким и уступчивым. Он мог перечить матушке лишь в самых почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением.
Последнее лето перед поездкой за границу Иван Сергеевич провел в Спасском. Он приехал домой веселым, жизнерадостным юношей, часто в доме раздавался его заразительный смех. Шутки Тургенева вызывали взрывы хохота в кругу спасской молодежи, неизменно окружавшей остроумного и живого собеседника. Часто на потеху публике он пускал в ход свои незаурядные актерские способности: например, изображал «зарницу» или «молнию». «Фарс этот, — вспоминали очевидцы, — начинался легким миганьем глаз, подергиванием рта то в одну, то в другую сторону с неуловимой быстротой. А когда начиналось подражание молнии, то вся физиономия его настолько изменялась, что становилась неузнаваемой: мышцы лица приходили в такое беспорядочное движение, что Варвара Петровна приказывала немедленно прекратить представление: она боялась, чтобы сын не перекосил себе глаза».
Летом Иван Сергеевич усиленно занимался греческим языком, а в минуты отдыха «обучал» воспитанницу Варвары Петровны премудростям греческого произношения, заставляя ее заучивать и громко выкрикивать звуки: «Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс!» Затем Иван Сергеевич ставил Вареньку на стол, придавал ее фигуре классическую позу с вытянутой рукой и заставлял повторять заученное сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом оба заливались таким звонким и беззаботным смехом, что следовал приказ Варвары Петровны прекратить это ребячество. «Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех!»
В это время Варвара Петровна разыгрывала роль несчастной, оставленной богом и людьми женщины. Комнату покойного мужа она объявила «священной»: никто не имел права входить в это святилище, кроме самой хозяйки Спасского. Здесь она предавалась горьким раздумьям о своей вдовьей судьбе. Конечно, для грусти и горестных размышлений у Варвары Петровны были свои основания: вслед за потерей мужа скончался, не дожив до шестнадцатилетнего возраста, младший ее сын. Но в горе матери было что-то показное, вызывающее. Страдая сама, госпожа считала своим долгом мучить других. Часто с ней случались истерики, после которых Варвара Петровна объявляла домашним, что находится при смерти, и разыгрывала сцену прощания с близкими. В образе умирающей женщины, закатывая глаза, поминутно охая и впадая в краткие обмороки, она сидела в мягком кресле у себя в кабинете, а сыновья, родственники и близкие обязаны были подходить к ней по очереди, кланяться и целовать руку. При этом госпожа благословляла каждого, милосердно отпуская водившиеся за ним грехи.
Когда в доме становилось невыносимо от материнских причуд, Иван Сергеевич отправлялся на охоту с ружьем и собакой. Сначала спутником его охотничьих странствий был Николай Николаевич, но однажды в окрестностях Спасского Тургенев встретился с крестьянином-охотником Афанасием Алифановым, которому суждено было стать верным спутником и другом писателя на долгие годы. В «Записках охотника» Тургенев вывел его под именем Ермолая и нарисовал следующий портрет: «Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и дроби, другой сзади — для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой шапки». Ружье у него было одноствольное, кремневое и так «отдавало» при выстреле, что правая щека у охотника всегда была пухлее левой.
Читать дальше