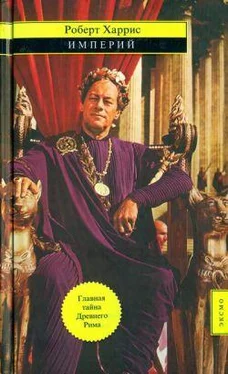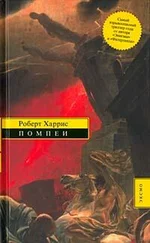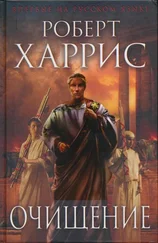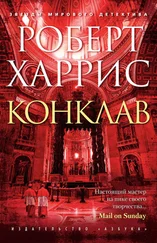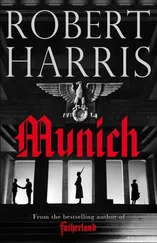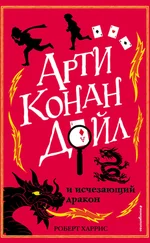Наконец с улицы донеслись ликующие возгласы, возвестившие о прибытии великого мужа, и в следующее мгновение он был уже среди нас – кажущийся неправдоподобно большим, улыбающийся, пожимающий руки и дружески хлопающий кого-то по спине. Даже мне достался дружелюбный толчок в плечо. Сенаторы принялись уговаривать Помпея произнести речь, по поводу чего Цицерон заметил чуть громче, чем следовало бы:
– Он пока не может говорить – я еще не написал то, что ему следует сказать.
Я заметил, как на лицо Помпея набежала мимолетная тень. Однако, как обычно, на помощь Цицерону пришел Цезарь, залившийся искренним смехом. Помпей тогда и сам вдруг улыбнулся, шутливо погрозив пальцем. Атмосфера разрядилась, став непринужденной и чуть насмешливой, каковая бывает обычно на командирской пирушке после победы, когда каждый считает своим долгом немного поддеть командующего-триумфатора.
Каждый раз, когда в мозгу моем возникает слово «империй», перед глазами словно живой предстает Помпей – таким, каким он был той ночью. Склонившись над картой Средиземноморья, он раздавал куски суши и моря с тою же небрежностью, с какой обычно разливают вино («Можешь взять себе Ливийское море, Марцеллин. А тебе, Торкват, достанется Западная Испания…»). И Помпей на следующее утро, когда явился на форум, чтобы забрать свою награду. Летописцы позже укажут, что двадцать тысяч человек устроили давку в центре Рима, чтобы увидеть, как Помпея назначат главнокомандующим всего мира. Толпа была настолько велика, что даже Катулл с Гортензием не решились на последний акт сопротивления, хотя, я уверен, очень того хотели. Но взамен оказались вынуждены стоять бок о бок с другими сенаторами с самым добродушным видом, какой только могли напустить на свои лица. А Крассу не хватило сил даже на это, что, впрочем, неудивительно, и он предпочел не прийти вовсе. Помпей был немногословен. Речь его свелась в основном к выражению благодарности. Была она торжественной и скромной – и составлена, конечно, Цицероном. Прозвучал, помимо прочего, призыв к единству нации. Впрочем, говорить ему не было особой нужды – одного лишь его присутствия было достаточно, чтобы цена хлеба на рынках упала наполовину. Столь велика была вера, которую он вселял в народ. А завершил Помпей свое выступление блестящим театральным жестом, придумать который мог только Цицерон:
– Я вновь облачаюсь в одежду, столь дорогую мне и знакомую, – священный красный плащ римского полководца на поле боя. И не сниму его, пока не одержу в этой войне победу, а иной исход означает для меня смерть!
Подняв в приветствии руку, он сошел с помоста, а вернее было бы сказать, уплыл с него на волне криков одобрения. Рукоплескания еще продолжались, когда внезапно, уже покинув ростру, Помпей вновь показался на виду – уверенно поднимающимся по ступенькам Капитолия и уже в ярко-пурпурном плаще, который служит отличительным знаком каждого римского проконсула на действительной службе. От восторга люди сходили с ума, а я украдкой посмотрел в ту сторону, где рядом с Цезарем стоял Цицерон. На лице Цицерона застыло отвращение с примесью насмешки, между тем как Цезарь был явно восхищен, будто уже узрел собственное будущее. Помпей же проследовал к Капитолийской триаде, [19]где принес в жертву Юпитеру быка, после чего незамедлительно покинул город, не попрощавшись ни с Цицероном, ни с кем-либо иным. Пройдет шесть лет, прежде чем он сюда вернется.
На ежегодных выборах претора летом того года Цицерон шел впереди всех. Избирательная кампания была неприглядной и бессвязной, поскольку последовала за борьбой вокруг Габиниева закона, когда доверие между политическими группировками рухнуло. Передо мной лежит письмо, которое Цицерон написал тем летом Аттику, выражая отвращение ко всем проявлениям общественной жизни:
«Невероятно, за сколь короткое время становится столь хуже состояние, в котором ты их находишь, после того как отошел от них».
Дважды голосование приходилось прерывать досрочно из-за драк, вспыхивавших на Марсовом поле. Цицерон подозревал Красса в подкупе черни для срыва голосования, но не мог найти тому доказательств. Какова бы ни была истина, лишь к сентябрю восемь избранных преторов смогли собраться в Сенате, чтобы определить, в каком суде кому из них председательствовать в предстоящем году. Для решения этого вопроса им по обычаю нужно было тянуть жребий.
Самой заманчивой была должность городского претора, который в те времена ведал всей юриспруденцией и считался третьим лицом в государстве после двух консулов. На нем также лежала обязанность устроителя Аполлоновых игр. [20]Если должность эта пленяла всех, то возглавить суд по делам о растратах не желал никто ни за какие блага, ибо служба на данном посту выматывала все силы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу