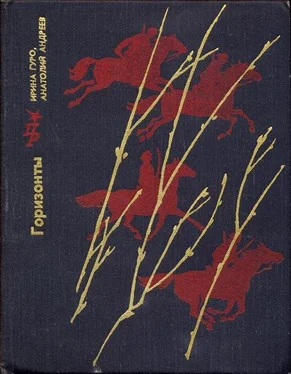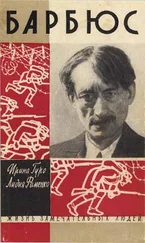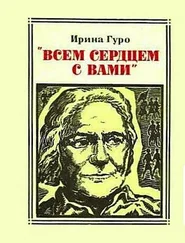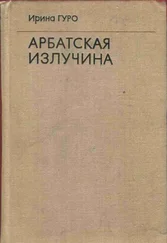Ничем не обоснованная тревога шагала рядом, пока Тарас Иванович неторопливо подымался по широкой лестнице мрачноватого внушительного здания.
Кругом кипела суета большого учреждения. «Как на конном базаре», — про себя решил Титаренко, плавая в табачном дыму и осторожно пробираясь мимо хватких молодых людей в модных, узких книзу брючках и стянутых в талии пиджаках и девиц — гривастых, словно протодьяконы. Все они имели при себе, будто опознавательный знак, папку под мышкой. И вид такой деловой и углубленный! И бегали они по лестницам и коридорам быстро-быстро, перебирая резвыми ногами в разномастных баретках. «Крапивное семя», — пробурчал про себя Тарас Иванович.
Ему казалось, что бегают вокруг все одни и те же, почему и возникало приятное для него впечатление. «Все попусту. Беготня и болтовня. Фиктивная активность», — где-то он слышал эти слова, и даже в определенном смысле: «Развивайте, мол, поощряйте фиктивную активность! Чтобы крутились у вас колесики, да вхолостую».
Впрочем, бестолковая, как считал Титаренко, суета замирала, останавливалась у порога кабинета Рашкевича, как разбивается волна у каменного мола. Да, нечто гранитное, монументальное виделось в самой двери, ведущей в приемную, с солидной дощечкой: «Зав. оргинстром С.П. Рашкевич».
Титаренко бывал здесь не раз — Рашкевич принимал его только на службе, — но всегда испытывал некоторый трепет, берясь за хорошо начищенную медную ручку дубовой двери.
И сразу окунулся в атмосферу серьезности, весомости — уже здесь, в приемной. За секретарским столом сидела не какая-нибудь финтифлюшка, вроде тех, кто носился по коридорам на волнах канцелярского прибоя, а пожилая женщина с гладко зачесанными волосами, похожая в своих дымчатых очках на учительницу, — кажется, так и было: из педагогов. И при Рашкевиче — с незапамятных времен. И хотя на стульях вдоль стенки сидели всякие, Тарас Иванович еще и поздороваться с Ольгой Ильиничной не успел, как она приветливо и веско уронила:
— Пожалуйста, дожидается!
И тотчас обратилась к сидящим:
— Пробачте, товарищи, приезжий с периферии. Вне очереди.
На правах старого знакомства, она спросила:
— Как у вас в Старобельске?
— Как всюду, — многозначительно пожал плечами Титаренко, зная, что этот ответ, и пожатие плечами, и обмен взглядами — все входит в атмосферу, окружающую Рашкевича. И Ольга Ильинична это знает и обожает. Упаси бог, не в полном курсе, но именно эту атмосферу полунамеков, иронических хмыканий и всего того, что умещается в короткие минуты и на коротком расстоянии между, дверью в приемную и дверью в кабинет, поддерживает и блюдет верно.
— Сейчас освободится! — успокоительным тоном бросила Ольга Ильинична и слегка коснулась плеча Титаренко.
Почти тотчас из кабинета не вышел, а выскочил, словно из парной в предбанник, лысоватый толстяк с папкой под мышкой.
— Распушил! Насмерть распушил! — радостно объявил он.
И стал восторженно объяснять Ольге Ильиничне: «Грозен, мол, но и в гневе велик товарищ Рашкевич», но Титаренко уже не слышал, так как плотно закрыл за собой дверь в кабинет.
И здесь то двойственное впечатление, которое и восхищало и пугало Титаренко, возникло в сильнейшей степени. И пока они говорили, маятник колебался то в одну, то в другую сторону. То — почтительного удивления, то неясного опасения.
Все, все в Рашкевиче отвечало сложившемуся типу советского служащего высокого класса, так называемого «ответработника». Сорокапятилетний, начинающий полнеть, но неравномерно, а как бы от верху, с двойного подбородка и жирных плеч, Рашкевич никак не мог быть назван толстяком, при его-то росте! И самая полнота его говорила в его пользу: не от излишеств, а от сидячей жизни — от «деятельности»! Через модные роговые очки глядели глаза с благожелательным выражением, но и требовательно. Весь облик Рашкевича говорил: этот человек полон собственного достоинства, оно наполняло его, выплескиваясь через край, и этим качеством он как бы одарял и тех, с которыми благожелательно общался.
И странно: зная всю его подноготную, вовсе не пристегивал Титаренко ее именно к этому Рашкевичу. А воспринимал его с той характеристикой, которая лежала на поверхности и как броней укрывала Рашкевича. Броней, которую, казалось, не пробить. Надежно служила она ему уже десять лет, с тех пор, как после разгрома петлюровской армии он оказался на Украине, подальше от родной Галиции, подальше от заветных мест, а особенно с тех пор, как заимел партийный билет КП(б)У в кармане.
Читать дальше