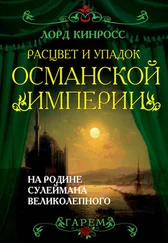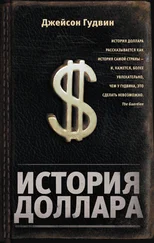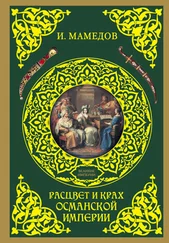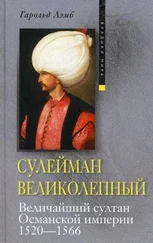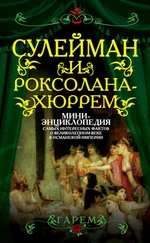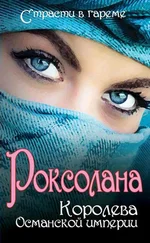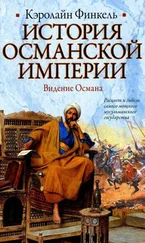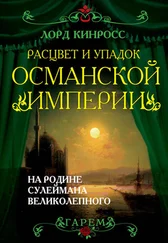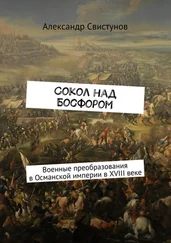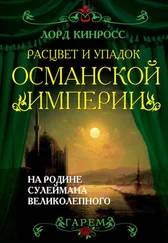Суровы и круты были Балканские горы — страна глубоких ущелий, заснеженных перевалов и жалких деревенек, похожих на россыпь мусора, выброшенного из города; целые народы так надежно прятались в своих высокогорных логовищах, что добраться до них можно только на четвереньках, да и то если не смотреть вниз. Густым и темным был покров дубрав, встречающих вас, когда вы въезжали в страну сербов, и сопровождающих многие дни подряд, к суеверному ужасу приставленного к вам янычара. Зелеными и влажными были рисовые поля Марицы, что в Болгарии, сухими и жаркими — морщинистые холмы Фракии, пригодные лишь для коз. Все источники в империи, уверяли путешественники, были сернистыми, ни в одном ее городе не было крепостных стен и часов на площади, а всякий совершающий трехдневное путешествие по Адриатическому морю из Бари в Дуррес неизбежно попадал в шторм, и, проведя в бушующем море две недели, изможденный и растерянный, сходил на берег в первой попавшейся рыбацкой деревне.
Жители одной из боснийских долин все поголовно страдали зобом и носили сандалии. Болгарские крестьяне отличались особенной почтительностью. Пастухи Пинда славились своими дикими нравами. В горах Далмации обитало племя гигантов, чьи ружья были еще длиннее, чем они сами. Евреи Фессалоник могли показать вам ключи от своих домов и складов в Гранаде, куда они рассчитывали в скором времени вернуться, а албанцы — парящих в небе орлов, своих предков. Девушки, живущие в одной деревне рядом с Пловдивом, все до одной были принцессами византийской крови, как решил Бусбек, принимая во внимание их благородную осанку и ослепительную красоту.
На обед — «блюдо вареного ячменя или риса и большой кусок баранины. Вокруг блюда на подносе — аппетитного вида хлеб. И еще одно блюдо с медом или куском сотов», — вспоминал один путешественник, а другому предложили фету — «большой ком грубого непрессованного сыра». Европейцы жаловались, что им неудобно сидеть на полу; к XIX веку взрослые мужчины успели исписать множество страниц своих путевых заметок полукомичными описаниями перенесенных ими страданий. Вместо веселого христианского трактира путешественник мог угодить в мрачный, кишащий вшами и блохами хан — «несколько прогнивших лачуг, сгрудившихся вокруг навозной кучи», в сырую комнатушку без окон с охапкой соломы вместо постели. Если хан попадался не из лучших, значит, он был поистине ужасен: на соломе уже много кто успел поспать, в комнате мороз, насекомых полным-полно, постояльцы самого бандитского вида и одинокий слуга, сидящий «за дверцей, закрытой на сто засовов; этот узник, выглядывающий из крохотного зарешеченного окошка, продает чеснок, соль, сыр и оливки», а иногда и паршивое греческое вино. Бусбек предпочитал наводить порядок в одном из местных сараев, после чего разжигал огонь, загородив его тканью своего шатра, ставил стол и кресло, которые вез с собой, и «чувствовал себя счастливым, словно король Персии». Лорд Гарри Кавендиш, будучи в 1589 году генуэзским торговым агентом, спал в стогах сена, в крестьянской телеге, на крыльце церкви и в курятнике. «О, ханы Албании! Увы мне! Ночь еще не кончилась! — стенал Эдвард Лир три века спустя. — Неисчислимые блохи… огромные пауки, привлеченные теплом, градом падают с потолочных балок. О, ханы Тираны! Большущие ночные бабочки вьются вокруг меня, задевая крыльями лицо!» Однако путешественнику могло и повезти, и тогда его отводили в величественный караван-сарай — полубазар, полуотель, где купец мог сложить свои товары в погреб и закрыть его на замок, где лошадей размещали в приличных конюшнях, а к услугам постояльцев были комнаты (как одноместные, так и общие) на втором этаже вокруг внутреннего двора, причем в каждой комнате был очаг, туалет и место для помывки. В таком караван-сарае можно было три дня жить и питаться бесплатно.
Если вы путешествовали по суше, вас ожидало, как говорил Байрон, «долгое прощание с христианскими языками» — венгерским, сербохорватским, греческим, болгарским и, если вы высаживались в Салониках, кастильским испанским. Если вы плыли в Константинополь через Дарданеллы, вас приветствовали на турецком, греческом, иврите, армянском, арабском, персидском, болгарском, валашском, немецком, голландском, французском, английском, итальянском, венгерском. Какой-нибудь проходимец в лохмотьях мог, ухватив вас за рукав, обратиться к вам на своем родном французском, а моряк, у которого вы спросили дорогу, мог заговорить на знакомом вам диалекте Венето, и вы даже могли случайно услышать, как адмирал османского флота, капудан-паша, известный своей ненавистью к христианам, шепчет под нос проклятье на родном итальянском.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
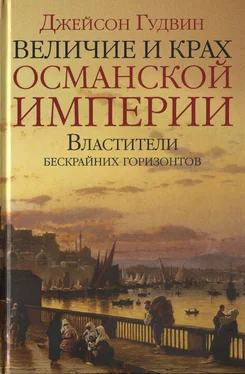
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)