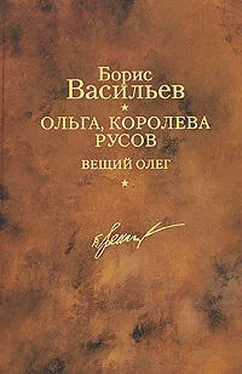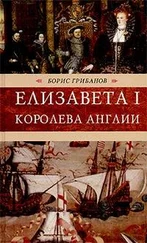По тому, сколь протяжно и неуверенно прозвучало это отрицание, как еще ниже над рукоделием склонилась золотоволосая головка, Альвена поняла, что девушка сказала полуправду и что эта полуправда мучает ее.
— Они тебя трогали?
Девушка молчала, еще ниже опустив голову.
— Я спросила, — тверже, чем обычно, повторила Альвена.
— Я невинна, госпожа. Клянусь…
— Я спросила не об этом, и ты знаешь, о чем я спросила. Подними лицо и посмотри на меня. Тебя трогали мужские руки. Где желали. Часто?
— Один раз, — еле слышно пролепетала Инегельда. — Один раз плюнули в зеркало, а я до сих пор чувствую липкие пальцы. И не могу отмыться, стереть с себя…
Из-под опущенных ресниц выползли слезинки. Крупные, как речные жемчужины на уборочье самой хозяйки: Инегельда умела плакать так, как это было нужно.
— Успокойся, — голос Альвены дрогнул. — Я больше никогда не спрошу тебя об этом. Никогда.
Она притянула к себе золотоволосую головку, прикоснулась губами, прижала к груди. Инегельда позволила себе робко всхлипнуть — ровно настолько, насколько требовалось, — и замерла на груди Альвены, старательно вслушиваясь, как бьется ее, а не свое собственное сердце.
«Несчастный ребенок, — думала Альвена, чувствуя, как волна теплой нежности поднимается в ее душе. — Одна во всем свете, совершенно одна. Византийское зеркало. Как точно она определила свое положение-драгоценность, которую так легко сломать навсегда…»
Больше они не касались в своих разговорах ни похотливых рук, ни грязных намеков, ни каких-либо попыток продажи девочки-рабыни. Но беседы продолжались, делаясь все длиннее и обстоятельнее, пока не превратились для Альвены в потребность ежедневно ощущать подле себя юное существо, быть с нею ласковой и внимательной, слушать ее милый тихий голос. На какой-то грани Альвена поняла, что ее старания по изучению таинственного дара князя Воислава вот-вот сменятся почти материнскими заботами о несчастном ребенке, волей сдержала собственные чувства и заставила себя вспомнить о зарубках, оставленных подозрительным Хальвардом.
— Расскажи мне о датских викингах, Инегельда. Даже если тебе будет больно что-то вспоминать, придется перешагнуть через боль.
Из глаз Инегельды двумя потоками хлынули слезы. Она глядела в упор на свою госпожу, не моргая, не говорила ни слова, слезы стекали по нежным щекам, а во взоре было столько ужаса и отчаяния, что Альвена тут же пожалела и о своем вопросе, и о тоне, каким он был задан. Обняла, по-матерински прижала к груди.
— Успокойся, Инегельда, успокойся, слышишь? Прости, я не знала, что принесу тебе такую боль.
Инегельда разрыдалась. Отчаянно, взахлеб, дрожа всем телом и бессвязно повторяя:
— Мамочка, мамочка… Почему тебя нет, мамочка моя, почему тебя нет?…
Альвена тут же уложила ее, укутала, напоила настоем из корней валерианы.
— Я не буду больше расспрашивать тебя, не бойся.
— Я все расскажу, — тихо сказала Инегельда, чуть успокоившись. — Я все еще боюсь данов, госпожа. Помоги мне изгнать страх из памяти моей, и я расскажу все.
Больше Альвена ни о чем не расспрашивала. Не забывая о тревогах Хальварда, она уже никак не могла соединить его подозрения с несчастной девушкой, столь жестоко и несправедливо обделенной судьбою. Да, заботы о безопасности конунга Олега по-прежнему оставались главными ее заботами, здесь ничего не изменилось, да и не могло измениться, но некий восклицательный знак повышенной осторожности и особой своей ответственности как бы отступил, смягчился, утратив свое грозное всепоглощающее значение.
Теперь она старалась быть особенно ласковой и предупредительной, избегала касаться прошлого и стремилась окружить несчастную рабыню той любовью и вниманием, которых Инегельда по ее представлениям была лишена всю жизнь, не замечая, что эта подчеркнутая любовь все больше и больше овладевает ею самой.
Инегельда не просто чувствовала, как меняется ее госпожа, но и прекрасно понимала ее состояние, считала мелочи, которые прорывались все чаще и чаще. Ловила ласковые взгляды, которые с каждым свиданием становились все естественнее, будто вымораживаясь из-под ледяного наста когда-то замороженной души; ловила не столько слова, сколько оттаивающий голос своей навсегда одинокой госпожи. Она была не только умна и на редкость наблюдательна, но и обладала природным даром утонченной прозорливости, и юный возраст ее был здесь не помехой, а, скорее, подспорьем, щитом, за которым легко и просто можно было укрыться от собственной нечаянной оплошности, переждать, передумать, найти иной подход и приладить новую улыбку. Ей присуща была звериная неподвижность выжидания, и она — выжидала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу