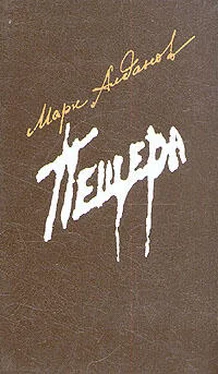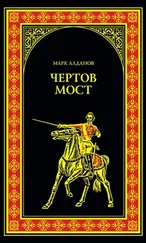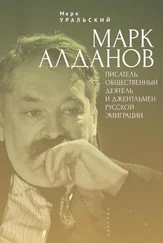— Вы нашего прихода?
— Нет… Я живу в Париже и сегодня должен вернуться обратно.
— Тогда, конечно, приходите опять. Через полчаса или через час. Лучше через полчаса.
— Очень благодарю.
Монах проводил его. Снова тяжело отворилась дверь. Браун поклонился и вышел, еще раз поблагодарив монаха.
Было очень холодно. Браун пошел вверх по той же длинной угрюмой улице. Людей встречалось все меньше. «Да, это прекрасно. Но каждому свое: это не для меня. Я так не прожил бы и трех дней… Покой? Впереди и у него то же беспокойство — большое беспокойство… В сущности, все, что он мог сказать мне, я там услышал, ничего не добавишь. Вернуться через полчаса? Зачем?..» Он вступил в полосу света и взглянул на часы: до отхода поезда в Париж оставалось еще много времени. Браун увидел, что незаметно для себя подошел к тому самому фонарю. Навстречу по улице спускался старый сгорбленный человек. «Да, зайти еще раз можно, времени хватит. Но о чем же мы будем говорить? Ничего, кроме муки, из этого не выйдет… Разве написать ему? Там был почтовый ящик… Да, конечно, разговаривать не надо и незачем…» Старый человек вошел в полосу, освещенную фонарем. В ту же секунду Браун узнал Федосьева.
У стойки убогой кофейни двое мастеровых в шерстяных жилетах весело болтали с толстой, на редкость безобразной хозяйкой. За столом три человека играли в карты. Все оглянулись на Брауна. Черная труба стоячей печки сначала шла вверх, затем горизонтально вдоль стены, и снова поворачивала под прямым углом. «Все три измерения, — подумал, садясь, Браун, — там, говорят, будет четвертое… Но вот, надеюсь, такой физиономии там, в четвертом измерении, не будет, и это тоже утешенье…» — «Дайте мне, — сказал он хозяйке и остановился. — Дайте мне Перно и бумаги для письма…»
За дверью теперь было совершенно темно. По стеклу наискось шла надпись белыми буквами. «Отлично сделал, что не окликнул его. Едва удержался, но отлично сделал… Он состарился лет на двадцать… Если б он увидел меня, он, верно, сказал бы обо мне то же самое. Что там написано, на той стороне?» — соображал Браун, глядя на черное стекло. «Две… пять… девять букв. Так и мы отсюда стараемся разобрать, что там, по ту сторону… Если разберу, то сегодня, а не разберу, так отложить на три месяца? Увижу в печати „Ключ“, послушаю, что скажут люди…» Он не столько прочел, сколько догадался: написано было «téléphone»… «Ну, вот, и тут выходит, что нельзя откладывать. Очень хорошо, слушаю-с, очень хорошо…» Браун дрожал все сильнее. От печки шел жар. «Этак можно и простудиться…» — «Eh bien, rnon vieux, rien que pour le plaisir d’assister à ton enterrement…» [291]— говорил мастеровой. Хозяйка захохотала. «De la bière, vous autres, là-bas!» [292]— закричал один из игроков. «Вот для них Бах написал Magnificat… А я себя убеждал много лет, что люблю народ… Но это не идет к делу… Я думал не об этом…» — Хозяйка принесла стакан с желтой жидкостью, графин, истертый до дыр бювар. Браун взглянул на нее с отвращением, вынул карманное перо и принялся писать.
«Простите, что не повидался с Вами. Я для этого, собственно, приехал из Парижа. Только что издали Вас видел и не остановил: вдруг почувствовал (именно почувствовал), что разговаривать нам было бы очень тяжело. Вы, вероятно, восхваляли бы мне преимущества Вашей пещеры перед моею. Я не мог бы ответить Вам тем же: своей не очень удовлетворен и не засижусь в ней. Но Ваша мне не годится. Искренно отдаю ей должное: ее достоинству, красоте и величию. Церковь давно уже (почти незаметно для нас) стала одной из добрых сил, все более редких в мире (как все напоминающее людям, что они все-таки не совсем звери). Мне неясно, зачем Вы переменили веру. Если б от православия осталась одна его несказанно-прекрасная панихида, то и этого было бы достаточно для его „оправдания“ — и, конечно, не только эстетического. Но это Ваше дело. Знаю только, что мне с Вами не по пути и теперь.
Разрешите послать Вам написанную мною новеллу, из той книги «Ключ», о которой я когда-то Вам рассказывал. Скоро книга эта выйдет (сегодня отослал в типографию); надеюсь, Вы ее прочтете. А до того прочтите новеллу. Она называется «Деверу». Я хотел было назвать ее «Магдебургская кошка», да уж очень было бы литературно, то есть гадко.
Быть может, Вы истолкуете мою новеллу, как капитуляцию перед Вашим кругом мыслей, — и старым, и нынешним. Это будет неверно. Нет, в ней третий выход: не Ваш и не мой. Общего, годного для всех решения задачи — основной задачи существования — нет и, по-моему, быть не может. Думаю, что третий выход самый лучший и достойный, — для него нужно быть Декартом! Я не Декарт, хоть в меру сил, в лучшие свои часы, старался жить как надо: на высотах. Лучших часов было не так много. «Начать новую жизнь»? Какую-нибудь новую жизнь можно было бы придумать. Но поздно мне искать 1002-ую ночь.
Читать дальше